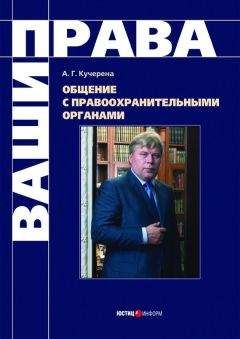А РЕКУНКОВ - Перед лицом закона
К нему-то и обратился Петр Арсентьевич за советом, как и где лучше устроить детей на учебу: с нынешними порядками он знаком не был, ибо стал уже настоящим отшельником, хотя газеты выписывал.
Киреев скоро ответил длинным письмом. Не хитря и не обинуясь, он обосновал разумность своего предложения, так как ему хорошо была известна щепетильность друга и его решительное неприятие какой-либо зависимости. Он, Киреев, зарабатывает много. Жена тоже работает. Детей у них нет. Занимают они прекрасную квартиру в центре, на Трубной площади. С ними живет теща, добрая старая женщина. Она готовит отменно.
Вывод: самое разумное — привезти Петра и Евгения в Москву, поселить в квартире на Трубной. Школа совсем недалеко. Детям будет с тещей не хуже, чем цыплятам под крылом у наседки.
Храмов колебался недолго: видел, что предложение сделано от чистого сердца. И настал день, когда кордон был залит слезами. Плакали жены рабочих, женщины, с недавних пор тоже зачисленные в штат лесничества. Своей жене Петр Арсентьевич плакать на проводах запретил, приказав отплакаться ночью.
Объездчик Андрей заложил парой коляску на мягких рессорах, приторочил сзади чемоданы и узлы отъезжающих. Расцеловались со всеми чадами и домочадцами, уселись и, утирая мокрые от чужих слез щеки, тронули.
Это был первый узловой момент в биографии Евгения Петровича Храмова. Женя не плакал. С чего плакать десятилетнему мальчику, отправляющемуся в огромный, никогда не виданный мир?
Приезд в Москву был подгадан так, что через два дня начиналась запись в школу. Дядя Леня поселил гостей в просторной комнате с двумя широкими окнами, где стояли два дивана и непонятная кровать, называвшаяся, как узнали братья позже, раскладушкой. После ужина братьев отправили спать, а взрослые остались за столом.
Утром за завтраком составлялся план действий. Дядя Леня собирался самолично пойти к директору школы, но отец сказал: «Пожалуйста, никаких протекций, сам поведу». И дядя Леня не настаивал на своем.
А когда за дядей Леней пришла из наркомата машина и он предложил всем прокатиться, отец опять отказался: «Пожалуйста, Леня, не надо. Мы так погуляем».
Следующий день был посвящен повторению пройденного — отец экзаменовал их по всем дисциплинам и со всей возможной строгостью. Отвечали оба без запинки, но он все-таки беспокоился, потому что не знал, каковы нынче требования учителей.
На всех экзаменах — они продолжались три дня — отцу по его настоянию разрешили присутствовать, и, кажется, именно это и спасло их. Отвечая на вопросы учителей, и Евгений и Петр глядели только на него и отвечали спокойно. Результат ошеломил учительскую: при всей придирчивости экзаменаторов выяснилось, что десятилетнего можно принять в пятый класс, а старшего — в выпускной. Отец уезжал гордый и довольный. А у них начались школьные будни.
Это был второй узловой момент в жизни Евгения.
Учились братья отлично. В 1927 году Петр окончил школу и поступил в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта на мостостроительный факультет. Может, выбор был сделан безотчетно, под впечатлением незабываемой поездки из Вятки в Москву, но Петр рвался именно в этот институт.
В 1932 году, когда Евгений окончил школу, Петр получил диплом инженера и женился на девушке-москвичке, лицом очень похожей на их мать, а значит, и на Евгения, который был копией матери.
В 1932 году в жизни Евгения произошло два важных события, и оба можно считать узловыми. Первое: он поступил в институт стали. Почему именно туда? Хотелось чего-то основательного. Второе: он получил паспорт. Хотя свидетельств о рождении у братьев не было, ибо на кордоне, где они родились, не было ни церкви, ни попа, ни администрации, а везти новорожденных в Вятку для крещения и регистрации Петр Арсентьевич Храмов посчитал необязательным, однако дядя Леня все уладил.
Случись по-иному, обидно было бы братьям. Ведь тогда, в тридцать втором, в Советском Союзе проводилась паспортизация. Это был праздник для всего народа.
О втором событии надо сказать особо еще и потому, что его оттенил маленький штришок, который с течением времени превратился в характерную черту личности Евгения Храмова. А дело такое. Получали паспорта братья вместе. Когда им их вручили, каждый долго рассматривал свою книжечку, а потом они книжечками поменялись и опять долго рассматривали. И вдруг Петр дернул брата за рукав, кивнул на дверь, они вышли на улицу. «Эй, гражданин Храмов, вы разве в Ленинграде родились?» — спросил Петр, тыча пальцем в графу «место рождения». Евгений не смутился. «Писать — на кордоне? Ха!» Старший пристально глядел на младшего, будто за пять лет корпения над конспектами и чертежами видел его в первый раз. «Балда, зачем же здесь врать?» — «Красивей так!» В тот миг Петр понял, что его влияние на братишку, влияние, в прочности которого он никогда не сомневался, кончилось. И у него возникло смутное ощущение, что они — две ветви одного дерева — растут в разные стороны. «Ладно, с этого дня зову тебя ленинградцем».
Вскоре Петр получил назначение и уехал в Днепропетровск. Братья расставались надолго.
Евгений учился играючи, все ему давалось с лету. А немецким занимался так серьезно и успешно, что стал отрадой преподавателя. Но вот товарищей у него почему-то не было. Правда, это с лихвой восполнялось вниманием к нему со стороны девушек. Сам он мужской дружбы, которую принято называть суровой, как мужскую слезу — скупой, не искал. Ему довольно было и женской.
В студенческие времена в нем сильно развилось чувство превосходства над другими. Во-первых, лучший на курсе, во-вторых, самый молодой в институте. И не хочешь, а возгордишься.
То, что с ним происходило, нередко случается с юношами: он перерос не только сверстников, но и людей гораздо старше себя. Однако, как известно, природа не терпит никакого неравновесия, и во второй половине жизни обычно происходит нечто обратное.
Нарушив обычай, существовавший при старшем брате, он перестал ездить на каникулы к отцу с матерью. Отец присылал ему деньги — этого вполне достаточно. А стипендию, кстати, он стал откладывать, для чего завел сберегательную книжку. Каникулы проводил на подмосковных дачах у знакомых девушек. Родителям писал мало, а брату совсем не писал.
Диплом был в 1937 году защищен блестяще. Евгения Храмова оставили в аспирантуре. Профессор, ставший его руководителем, был специалистом по твердым сортам стали. Но тут явились и неприятности — так, во всяком случае, квалифицировал это Евгений. В ноябре схоронили тещу дяди Лени, и это породило массу неудобств: некому стало готовить, стирать и ходить по магазинам, а также убирать квартиру.
В декабре на Север перевели дядю Леню и его жену. Квартиранту Храмову, хоть он и был уже прописан, предложили съехать. Ему дали комнату в общежитии на Соколе, во Всехсвятском. Ходить надо через комнату, в которой живут четверо студентов младших курсов и стенка тонкая, всякое реготанье слышно, как через бумагу, и уборная общая, и умывальник. После удобств квартиры Киреева он страдал.
И вдруг — это было в апреле — его вызвала секретарша ректора. Она сказала, что звонил товарищ Киреев, просил зайти к нему домой.
По состоянию здоровья дядя Леня с женой вынуждены были вернуться в Москву. Все опять пришло в норму. Пока Евгений переходил с курса на курс и сдавал кандидатский минимум, Петр успел поработать на строительстве Днепрогэса и перекинуть несколько мостов через реки — мостов, которые он же сам скоро будет взрывать. В 1939 году, когда младший собирался защищать кандидатскую диссертацию, старший базировался в Киеве. Они по-прежнему не переписывались. Обоим было некогда.
И тут стряслось несчастье — да, это называлось уже не просто неприятностями, а несчастьем: у Жени открылась язва двенадцатиперстной кишки. На пороге диссертации! Дядя Леня повез его в поликлинику старых большевиков. Старичок врач, обследовавший его, сказал, что болезнь — результат расшатанных нервов и переутомления. Никаких препаратов прописывать не стал, назначил диету и посоветовал ехать в деревню пить мед.
Вот и еще три большие вехи на жизненном пути Храмова: институт, диссертация, болезнь. Многие ему сочувствовали. Действительно досадно. Другие недоумевали: неужели положение так серьезно, что немедленно надо все бросать и лечиться? Ведь осталось всего ничего, защитился бы и стал самым, может быть, молодым в стране кандидатом наук.
Но Храмов ни о чем не в силах думать. Ему кажется — но, возможно, это и в самом деле так, — что он устал смертельно и болен тоже смертельно. Отныне единственной его заботой становится язва. Она не дает ему покоя, хотя особенных физических страданий не причиняет.
С сожалением его отчислили из аспирантуры — временно, с правом вернуться, когда позволит здоровье. Храмов вечером у себя в комнате составил план дальнейшей жизни и записал его в маленький блокнотик в переплете из зеленого сафьяна — получилось пять пунктов. Привычку планировать он завел еще по окончании института. Сам придумал, никому не подражал. Он не выписывался из квартиры дяди Лени, не снимался с комсомольского и военного учета, не снимал денег со сберкнижки — в предвидении скорого возвращения. В букинистическом магазине он купил несколько французских и английских книг. Учебники английского и французского были куплены раньше. Он намеревался к знанию немецкого прибавить знание и этих языков (четвертый пункт плана).
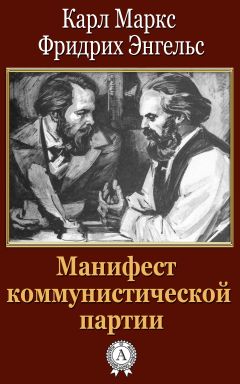


![Сергей Бетев - Без права на поражение [сборник]](/uploads/posts/books/242828/242828.jpg)