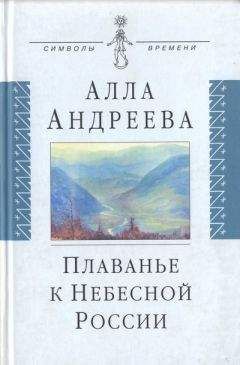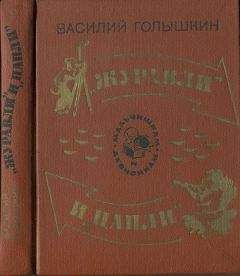Борис Романов - Путешествие с Даниилом Андреевым. Книга о поэте-вестнике
Как и Андреев, Соколовский, по преимуществу поэт, пишет также прозу, есть в его наследии и драматическая поэма.
Как и Андреев, он неравнодушен к Индии, в его книге «Рассказы сибиряка» (1833) в прозе и стихах говорится об «учении Шагя — Муни», объясняется мироустройство по этому учению.
Как и Андреев, он пишет поэму об Иване Грозном — «Иван IV Васильевич» (видимо, не окончена). Как и Андреев, Соколовский готов рассказать «Про чудеса перерожденья…»[46] и признается:
Мне в жизни — жизни было мало,
И я желал жить дважды…[47]
Как и у Андреева, у Соколовского, по определению современного литературоведа, «пафос всех… высоких произведений составляет неопределенный… порыв к какому‑то огромному и прекрасному грядущему, к источнику всемирной благодати»[48]. (Для Андреева этот «источник» куда конкретнее, он видит его в Розе Мира.)
В поэме Соколовского «Вавилонская башня» мы встречаем такую картину посмертия:
…властитель сильный…
Но будешь в ад заброшен ты
И ниспровергнут в ров могильный
К его изрытой стороне.
И в смертосенной тишине
Твое падение как диво
Пробудит всех, и все, толпой
Сбираясь шумно пред тобой,
Тебя, пришельца, суетливо
Начнут обглядывать кругом,
И скажут мысленно потом:
«Как, неужели перед нами
Тот самый муж богатый сил,
Который землю всю страшил…»[49]
И далее:
И тем, кто был закован в цепи
И перед кем повергнут ниц, —
Тем не отверзнул он темниц…[50]
Эти строки, конечно, перекликаются с подобными описаниями Андреева, изображавшего посмертие тех, «кто был растлителями и палачами народных множеств», вплоть до лексических совпадений:
Я падал в ночь свою начальную…
Заброшенным в толпу печальную…
По гиблым рвам…
Все тишью смертной залито…
Едва шевелясь, я лежал у стены…
Как падаль,
подтащенная ко рву…
Как и Андреев, Соколовский, по свидетельствам современников, был проникнут сильным религиозным чувством, впадал в мистицизм… Критики, говоря о нем, вспоминали Мильтона.
Творчество Соколовского, к сожалению, мало изучено, а те, кто о нем писали, либо говорили о его религиозности как о реакционности, либо всячески эту религиозность преуменьшали[51]. Но, несмотря на скромность значения и небольшой литературный масштаб, его творчество совсем небезынтересно, и можно предположить, что ему Даниил Андреев не отказал бы в чертах вестничества.
Другой поэт, в котором также можно найти эти черты (а значит, и «черты» Андреева), это крупнейший религиозный поэт XIX века Федор Николаевич Глинка (1786–1880). В отличие от Соколовского (кстати, так же, как и Глинка, окончившего 1–й кадетский корпус, известный своими традициями религиозного воспитания), чья литературная жизнь была сравнительно короткой, Федор Глинка и в литературе прожил мафусаилов век. Начав печататься до рождения Соколовского, он продолжал выступать в печати и в семидесятые годы. Не всегда ровный, иногда излишне многословный, Глинка один из плодовитейших русских религиозных поэтов. Продолжая традиции духовной поэзии Екатерининского века, он отдает, как мало кто из его современников, большую дань псалмодической поэзии. Его «элегический псалом» не потерялся и в ярком разнообразии русской поэзии 1830–х годов. А его книги «Опыты священной поэзии» (1826), «Иов. Подражание священной книге Иова» (окончена в 1834–м, опубликована в 1859 году), поэма «Таинственная Капля» (1840–е, опубликована в 1861 году) и другие духовные произведения (см. также «Сочинения». Т. 1. М., 1869) — замечательные явления религиозной поэзии, еще по — настоящему не прочитанные и по разным причинам оказавшиеся на обочине главных путей развития русской поэзии.
Характерна судьба его монументальной поэмы «Таинственная Капля», впервые опубликованной не менее чем через пять лет после окончания, да и то не в России, а в Берлине, и переизданной в Москве лишь в 1871 году, когда на дворе были совсем иные песни. Сложная и несколько тяжеловесная архитектоника поэмы, значительную часть которой занимают евангельские мотивы, основанная на средневековой легенде сосредоточенность на сугубо религиозных и мистических темах не способствовали ее известности.
Поэма состоит из нескольких циклов стихотворений, самый значительный из которых «Черты земной жизни Спасителя». В этом цикле, впервые в русской поэзии столь обширном обращении к новозаветным мотивам, звучит собственное, лирическое переживание евангельских событий и та мистическая вера в иную реальность, которая так близка была Даниилу Андрееву и которая звучит у Глинки непрестанно, как, например, в таких словах Христа:
А Я сниму покров буквальный
С загадки жизни сей земной
Для тех, кто вслед пойдет за Мной:
Я дам им жизненного хлеба,
Бессмертья покажу зарю
И расскажу про тайны неба,
И смертных с смертью помирю!..[52]
И в биографии Глинки, в общем прожившего благополучную долгую жизнь, есть эпизоды, схожие с трагическим житием Андреева, — участие в войне, тюрьма… Есть в личности Глинки такая родственная Андрееву характерная черта, которой восхищаются мемуаристы, как завет всегда и во всем говорить правду… Но главное, конечно, в другом — в способностях духовидения, проявленных Глинкой еще в молодости, в глубоком мистицизме, в принадлежности к единой традиции духовной поэзии. И поэтическое творчество Глинки во многом было связано с этой редкостной способностью к видениям, с годами становившимся все более полными и яркими.
Несомненно, что Даниил Андреев, может быть, самый крупный поэт, продолживший традиции русской духовной поэзии, усвоивший ее опыт, ее уроки, поэт, по своему внутреннему складу близкий ее представителям. Во многом эти традиции, восходящие к основам, определяющим особенности всего тысячелетия русской культуры, восприняты им через опыт и искания ближайших предшественников — поэтов Серебряного века.
Размышляя о поисках этой эпохи, Вячеслав Иванов замечал, что современная душа чревата мифотворческим синтезом религиозного сознания[53]. Противоречивость этого синтеза сказалась в миросозерцании поэтов и мыслителей, чаявших нового религиозного сознания, судорожно искавших истину в метаниях от эзотерики до богоборчества на путях, далеко уводивших их от православной церкви.
В творчестве Даниила Андреева, несмотря на всю его поэтическую цельность, отзвуки этих поисков слышны очень отчетливо. Он, «уловив» «тот миг, когда за бытием / Иное бытие раскроется нежданно»[54], видел и воссоздавал поэтически свой мир только лишь в связи с открывшимся ему «иным бытием». И хотя его мистицизм неотрывен от духовной смятенности трагического времени, столь же близок он и к поэзии, еще сохранившей цельность христианского миросозерцания.
Поэзии Даниила Андреева родственен уже сам строй духовной оды, который выработан был именно для того, чтобы поэтически переплавлять в выверенные строфы духовидческий, богословский и философский опыт. Не только в самой пластике стихового слова, но и в строфике, в очевидном пристрастии Андреева к восьмистрочной строфе, которая у него меняет рифмовку, превращаясь то в октаву, то в такую строфу, которую он называет русской октавой…
К стихам Андреева, близким одическому строю, оказываются буквально применимы слова, сказанные об оде Державиным: «Высокость… лирическая есть не что иное, как полет пылкого высокого воображения, которое возносит поэта выше понятия обыкновенных людей и заставляет их сильными выражениями своими то живо чувствовать, чего они не знали…»[55].
Поэты последней трети XVIII века и начала XIX в большинстве своем были «христианскими мистиками»[56], как их называл Карамзин. В своих духовных поисках, опираясь на Священное Писание, на отцов церкви, они не были чужды и обращению к «Бхагават — гите» (переведенной Александром Андреевичем Петровым, писателем и переводчиком конца XVIII века), и к таким мистикам, как Якоб Беме, Сен — Мартен, Сведенборг и другие. Но главное, в их творчестве наряду с «просвещенческим» присутствует религиозно — нравственный и сакральный пафос. И мессиански сакральное начало русской литературы, то более, то менее явно в ней присутствовавшее, нашло своеобразное выражение в поэзии Даниила Андреева. В его творчестве мессиански сакральные задачи поставлены открыто и целенаправленно. Поставлены в то время, когда и в нашей литературе, и в нашей жизни царило богоотступничество и торжествовало богоборчество.