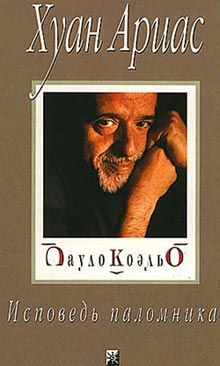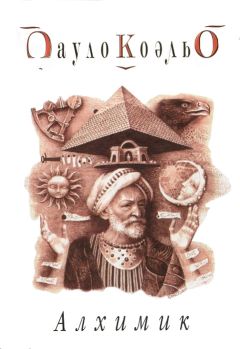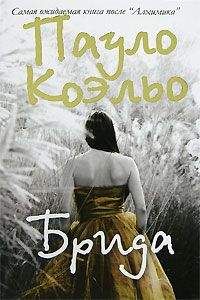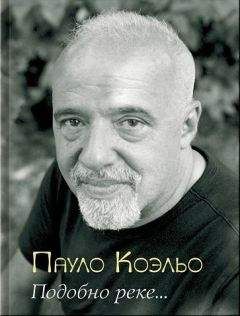Владимир Бушин - Пятая колонна
А то, что Сарнов и на сей раз врет, он сам тут же и доказывает: «Для меня это было моментом истины. Вот так же, наверно, мыслит и чувствует Солженицын». Да какой же это «момент истины», коли «истина» обретается по аналогии: если А так, то и Б так. А кроме того, как же Федоров мог стать «моментом истины» для сомневающегося критика в 1990 году, если он, Вася-то, умер в 1984-м. Ах, Беня… К слову сказать, ты родился и вырос в столице, был в семье единственным ребенком, которого родители по четным дням кормили черной икрой, по нечетным — красной, поили в такой же очередности то апельсиновым соком, то томатным. А Федоров был девятым ребенком в бедной крестьянской семье. Что такое лебеда, слышал? А потом, когда ты пакостничал в тылу, Вася работал на авиационном заводе. Что такое завод, знаешь?
А он продолжает как бы от лица Федорова: «Езжайте себе в Израиль и живите там счастливо. Но не суйтесь в наши русские дела! Не лезьте, как сказал Блок Чуковскому, своими грязными одесскими лапами в нашу русскую боль!». Тут можно добавить только одно: Александр Блок, Беня, это тебе не Вася. А совет Блока Чуковскому следует принять тебе и на свой счет, хотя ты родился не в Одессе, как Чуковский.
Затронув вопрос об отъезде евреев в Израиль, Б. Сарнов пишет, что когда его друг (еще один!) Аркадий Белинков «совершил головокружительный побег из нашей общей тюрьмы через Югославию в Америку», то этот пожизненно заключенный «просто ошалел от восторга и зависти». Ну шалеет он, как мы знаем, то и дело — и от восторга, и от огорчения, и от страха, но чаще всего — от злобы и ненависти к «советской тюрьме», взлелеявшей его в сыте и холе.
Вот и сейчас ошалел. И что дальше? Надо мчаться вслед за Аркашкой, правда? Тем паче, говорит, насчет «морального права сбежать, покинуть родину, у меня никогда (с детства! — В.Б.) не было ни малейшего сомнения». Какие, дескать, могут тут быть сомнения, если Тютчев хотел сбежать, если Гоголь сбежал в Италию (правда, ненадолго), если мой учитель Шкловский сбежал (правда, тут же и вернулся), и вот теперь мой друг Аркашка… Ну и?.. «Я тупо смотрел на открывшуюся калитку и не трогался с места… Но тем не менее оставался ярым сторонником эмиграции». И яростно агитировал за нее. Уехали все дорогие друзья — Сашенька Галич, Левушка Копелев, Васенька Аксенов, Вовуля Войнович… Есть основания полагать, что в какой-то мере именно под влиянием его агитации. Все укатили! А у меня, говорит, «отвращение к советской жизни дошло до предела», но — ни с места! Понимал, что у тех, кого он спровадил, все-таки были имена, за бугром они имели некоторую известность хотя бы по шумной истории со сборником «Метрополь», что помогло бы им устроиться там, а кому может понадобиться он со своими сочинениями об Эренбурге и Маршаке да с опытом работы в журнале «Пионер»? То есть орудовал он как истинный провокатор.
«Кое-кто из знакомых, — пишет, — уже стал намекать, что мне и самому лучше уехать». В числе этих знакомых был и я, только не намекал, а прямо говорил: «Беня, шпарь! В тюряге же сидишь. Хоть женушку свою пожалей. Дай ей вздохнуть воздухом свободы». Но эти намеки, говорит, «приводили меня в ярость». Странно, намеки-то были продиктованы состраданием. Но, скорей всего, дело тут в том, что он понимал: советчики видят его провокаторскую сущность. И он продолжал: «Российский литератор лучше выполнит свое предназначение, конечно же, не здесь, в тюрьме, а там, на воле!». И при такой-то убежденности — ни шага из тюрьмы на волю.
* * *Наконец, добрался критик Сарнов и до Солженицына. Казалось бы, чего им делить-то? Оба лютые антисоветчики, лжецы и клеветники; для обоих Россия — тюрьма; оба ненавидят Сталина, Горького, Шолохова, почти всю советскую литературу; один во время войны, зная, что они проходят цензуру, рассылал с фронта письма, в которых поносил Верховного Главнокомандующего, второй на того же Верховного измышлял слюнявые эпиграммы; оба одержимы страстью поглощения бумаги; оба лаются самым похабным образом, первый, например: шпана, бездари, плюгавцы, плесняки, собака, шакал, баран, обормот, хорек, скорпион и т. п., второй: чучело, слюнтяй, г…о, г….к, г….ед и т. п.; в своем всеохватном вранье оба используют один и тот же убогий прием анонимности, у первого об ужасах советского времени свидетельствуют один врач, один офицер, одна баба, две девушки, водопроводчик, молодой узбек и т. п., у второго — один писатель, один журнал, одна знакомая, одна приятельница и т. п.
Примечательно, что свою ненависть к Шолохову оба изливают примерно в одних и тех же словах. Как известно, Солженицын после встречи в 1962 году на Ленинских горах руководителей государства с писателями послал Шолохову уж очень любезное, просто льстивое письмо:
«Глубокоуважаемый Михаил Александрович!
Я очень сожалею, что обстановка встречи 17 декабря, совершенно для меня необычная, и то обстоятельство, что как раз перед вами я был представлен Никите Сергеевичу, помешали мне выразить вам тогда мое неизменное чувство, как высоко я ценю автора бессмертного «Тихого Дона». От души хочется пожелать вам успешного труда, а для того прежде всего — здоровья!
Ваш Солженицын».
И «глубокоуважаемый», и «ваш», и объяснение, и сожаление, и восхищение, и пожелание ото всей праведной души… Помните «Письмо ученому соседу», посланное чеховским Василием Семи-Булатовым из села Блины-Сьедены? «Извините и простите меня, нелепую душу человеческую, что осмеливаюсь вас беспокоить своим жалким письменным лепетом…» и т. д. Совершенно в том же пронзительном духе и Александр Исаевич — Шолохову!
Но вот минули недолгие сроки, Хрущева убрали, Ленинская премия Исаевичу, на которую его выдвинул «Новый мир», не обломилась, и ту встречу он изображает уже так: «Хрущев (уже не «Никита Сергеевич». — В.Б.) миновал Шолохова, а мне предстояло (!) идти прямо на него. Я шагнул, и так состоялось (!) рукопожатие. Ссориться на первых порах было ни к чему…». Что за несуразная мысль состоялась — ссориться при первой встрече да еще на высоком приеме! Но готовность ужалить, выходит, уже созрела в нежной душе скорпиона. Вот при такой готовности он и писал: «Глубокоуважаемый Ми…!».
Но дальше: «И тоскливо мне стало…». И Сальери было тоскливо при встречах с Моцартом. Мелким завистникам всегда тоскливо при виде гения.
«…и сказать совершенно нечего, даже любезного». А ведь какой ворох его душистых любезностей мы только что видели, какое амбре вдыхали.
«Земляки? — улыбнулся Шолохов под малыми усами, растерянный, указывая путь сближения». А чего растерялся-то классик с малыми усами? Да как же! На правительственном приеме лицом к лицу столкнулся с живым Семи-Булатовым из села Блины-Съедены. Кто тут не растеряется! И хорошо бы сблизиться с таким антиком.
«Донцы! — подтвердил я холодно и чуть угрожающе». Подумать только: угрожающе! Да чем же? А видно, уже тогда готовил диверсию против еще вчера «бессмертного» «Тихого Дона».
Но слушайте дальше: «Невзрачный Шолохов… Стоял малоросток и глупо улыбался… На трибуне он выглядит еще более ничтожным». Сам-то Исаич выглядел весьма величественно, когда Жорж Нива сажал его на закорки Бальзаку, а Сараскина — Льву Толстому.
Ну а Сарнов? Он, как всегда, словоохотлив: «Однажды, держась, как обычно, за руки, шли мы с моей любимой по Тверской и остановились перед портретами писателей в витрине книжного магазина, что напротив Моссовета». Это, надо полагать, магазин «Москва», но не в этом дело. А в том, что Беня с любимой увидели в витрине портрет «того, кто считается автором „Тихого Дона“». И вдруг любимая, не размыкая рук с любимым, нежным голосом хозяйки Лысой Горы воскликнула: «Какое ничтожество — Шолохов!». Для любимого это было так же неожиданно, как (помните?) реакция любимой во время застолья в Грузии на тост за русский народ: «А мы не русские, а мы — французские!». Сарнов тогда не возразил на вопль своей любимой, а сейчас и того больше: «У меня вдруг словно открылись глаза». Какое счастье иметь супругу, открывающую тебе глаза! В этих глазах, говорит, «Шолохов и раньше не шибко был похож на писателя». Он знает, кто похож! Например, разве Мандель не Данте?.. Вылитый! «А тут — мелкое личико, усишки… Я вдруг увидел: в самом деле — ничтожество!». И позже, когда уже без ясновидящей любимой довелось встретить не портрет, а живого писателя: «Оказалось, что он небольшого росточка». То ли дело Гроссман — 184 сантиметра! «Но главное — вот эта убийственная печать ничтожества на невзрачном облике».
Это поразительно! Какое единодушие, даже единоглазие! И у Сани, и у Бени одни и те же ключевые слова ненависти на языке: «росточек» («малоросток»), «невзрачный», «усишки» («малые усы»), «ничтожество», «ничтожество», «ничтожество»… Вот такое родство и душ, и взгляда, и языка. И что, говорю, им делить?..
* * *Мало того, порой Сарнов просто бежит по тропке, проложенной Солженицыным, дает вариант на заданную им тему. Вот он пишет об известном «Деле Кравченко». Этот хлюст в 1949 году перебежал на Запад и стал там вещать о порядках в наших лагерях. Одна французская газета обвинила его в клевете. Он подал в суд. В ходе процесса один свидетель со стороны Кравченко, сидевший в наших лагерях, упомянул, что в камерах было тесно. Что ж, вполне возможно. Но его спросили, как это выглядело конкретно. Он сказал: в камере размером в 40–45 кв. метров находилось человек 150–200.