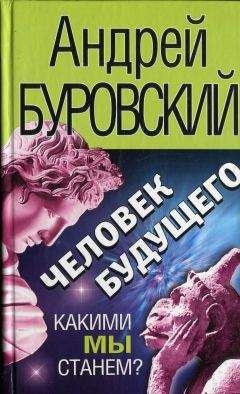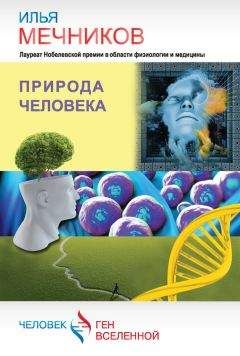Морис Метерлинк - Разум цветов
Плывя среди великолепных берегов огненного лета, кажется более подходящим наслаждаться пламенным чередованием часов в том порядке, в каком их отмечает та самая звезда, которая их проливает на наши досуги. В эти дни — более пространные, более открытые, более вольные — я верю только в большие деления света, названия которых солнце указует мне теплой тенью одного из своих лучей на мраморном циферблате, там в саду, около бассейна, где он отражает и молча записывает полет наших миров в планетном пространстве, как будто бы это было самым ничтожным делом.
В этой непосредственной и единственно подлинной записи велений времени, управляющего звездами, наши жалкие человеческие часы, распределяющие трапезы и мелкие движения нашей мелкой жизни, приобретают благородство, властный и несомненный аромат бесконечности, который делает более просторными и благодарными ослепительное росистое утро и почти неподвижный полдень прекрасного безоблачного лета.
К несчастью, солнечные часы, которые одни умели следить за важным и светлым чередованием беспорочных мгновений, становятся редкими и исчезают в наших садах. Их можно встретить только на парадном дворе, на каменной террасе, на месте, отведенном для игры, на опушке рощи какою-нибудь старинного города, древнего замка или дворца, где их вызолоченные цифры, циферблат и стрелка стираются под рукою того самого бога, культ которого они призваны были увековечить.
Все же Прованс и некоторые итальянские селения остались верны этим небесным часам. Нередко можно там увидеть на открытом солнцу фасаде беспечно разрушающейся виллы разрисованный al fresco круг, на котором часы тщательно измеряют свой фантастический полет. Изречения, глубокие или наивные, но всегда значительные, благодаря занимаемому месту и участию, которое они принимают в какой-то огромной жизни, стараются приобщить человеческую душу к непостижимым явлениям. "Час суда не пробьет на часах этого мира", — говорит надпись солнечных часов на церкви в Турет-сюр-Лу, удивительной маленькой деревне, почти африканской, которая лежит в соседстве с моим домом и среди нагроможденных скал и зарослей кактусов и диких фиговых деревьев кажется каким-то Толедо в миниатюре, высушенным солнечными лучами скелетом. "A lumine motus" — "Меня приводит в движение свет", — гордо возвещают другие лучистые часы. "Amyddst ye flowres I tell ye houres" — "Среди цветов я считаю часы", — повторяет древний мраморный стол в глубине старого сада. Но самая прекрасная надпись, несомненно, та, которую открыл однажды в окрестностях Венеции Гацлит, английский критик, в начале прошлого века: "Horas non nurnero nisi serenas" — "Я считаю только светлые часы". "Какое отрадное чувство, убивающее заботу! Все тени исчезают на циферблате, чуть только скрывается солнце, и время становится огромной пустотой. Движения его отмечаются только в радости, все же, что чуждо счастью, падает в забвение. Прекрасное слово, поучающее нас измерять часы только их благодеяниями, придавать значение только улыбкам, пренебрегать жестокостью судьбы, строить наше существование из мгновений блестящих и благословенных, обращаясь всегда к освещенной стороне вещей и представляя всему остальному скользить мимо вашего забывчивого и невнимательного воображения".
Часы стенные, песочные и забытые водяные дают абстрактное время без формы и образа. То орудия анемичного времени наших комнат, времени-раба, времени-узника. Но солнечный циферблат открывает нам реальную и трепетную тень от крыла великого бога в лазури. Вокруг мраморной площадки, которая украшает террасу или перекресток широких аллей и которая так хорошо гармонирует с величественными лестницами, легкими балюстрадами, зелеными стенами глубоких шпалер из грабов, мы наслаждаемся скоропреходящим, но несомненным присутствием лучистых часов.
Кто научился распознавать их в пространстве, тот видит, как они чередою касаются земли и склоняются над таинственным алтарем, дабы воздать жертву богу, которого человек почитает, но не в силах познать. Он видит, как они выступают в разнообразных и изменчивых одеждах, украшенные плодами, цветами или росой. Сперва прозрачные и чуть видимые минуты рассвета. Затем их сестры — минуты полудня, жгучие, жестокие, блистательные, почти непреклонные. И наконец, последние минуты сумерек — медлительные и пышные, замедляемые в своем шествии к приближающейся ночи пурпурными тенями деревьев.
Только солнечные часы достойны измерять великолепие зеленых и золотистых месяцев. Подобно глубокому счастью, они безмолвны. Над ними время проходит в молчании, как оно молча проходит над сферами пространства. Но церковь в соседней деревне иногда подает за него свой бронзовый голос, и ничто не может сравниться по гармоничности со звуком колокола, которому отвечает безмолвный жест их тени, отмечающей полдень в океане лазури. Они дают средоточие и последовательные имена рассеянному и безыменному блаженству. Вся поэзия, все очарования окрестностей, все тайны небесной тверди и неясные мысли высокого леса, сохраняющего свежесть, которую ему, как священное сокровище, доверила ночь, и счастливая, трепетная полнота хлебных полей, долин, холмов, беззащитно отданных в добычу пожирающему великолепию света, и вся беспечность ручья, протекающего между нежных берегов и сон пруда, который, словно каплями пота, покрывается пузырьками воды, и удовлетворенность дома, открывающего на белом фасаде свои окна, жадно вдыхающие горизонт, и аромат цветов, которые торопятся закончить день, и птицы, которые поют по приказанию часов, чтобы свить для них в небе гирлянды радости, — все это и тысячи других невидимых вещей и жизней собираются для свидания и сознают свою продолжительность вокруг этого зеркала времени, на котором солнце — лишь одно из колес великой машины, тщетно подразделяющей вечность, — отмечает благожелательным лучом расстояние, которое земля и все, что она на себе несет, проходит каждый день на звездном пути. (…)
ПО ПОВОДУ "КОРОЛЯ ЛИРА"
Легко убедиться в том, что последние годы, именно с завершением великого романтического периода, царство поэзии, в котором немногое изменилось после потери обширных, но необитаемых областей эпической поэмы, мало-помалу сокращалось и в настоящее время как бы свелось к немногим маленьким городам, уединенно затерянным среди гор. По всей вероятности, там пребудет она, полная жизненных сил и неодолимая, выиграв в чистоте и в напряженности то, что она потеряла в объеме и количестве. Там она мало-помалу сбросит с себя свои ненужные украшения — дидактические, описательные и повествовательные — для того, чтобы вскоре стать самой собой, т. е. единственным голосом, который в силах открыть нам то, что скрывает от нас молчание, то, чего человеческое слово уже не выражает и чего музыка еще не может выразить.
Лирическая поэзия будет существовать вечно; она бессмертна, потому что необходима; но какой жребий ожидает в будущем и даже в настоящем — не говорю уже драматурга или сочинителя драм, — но трагического поэта в собственном смысле слова, того, кто пытается соблюсти в своем произведении известный лиризм, изображая предметы более великими и прекрасными, чем предметы действительной жизни?
Нет сомнения, что лирическая трагедия греков, классическая трагедия в том виде, как ее понимали Корнель и Расин, что романтическая драма немцев и Виктора Гюго черпали свою поэзию в источниках, окончательно иссякших. Великая драма толпы, в душе которой надеялись открыть неведомый и неисчерпаемый ключ, принесла до сих пор плоды довольно жалкие. А новые тайны нашей современной жизни, которые заменили собою все другие таинства и подле которых Ибсен пытался прорыть несколько разведочных колодцев, находятся в непосредственном соприкосновении с человеком слишком мало времени для того, чтобы они могли видимым и действительным образом возвысить слова и поступки действующих лиц пьесы, поднимаясь над ними. И тем не менее не нужно скрывать от себя, — и поэтический инстинкт человечества всегда это предчувствовал, — что драма становится действительно истинной лишь тогда, когда она бывает выше и прекраснее, нежели действительность.
Но в ожидании того времени, когда поэты узнают, в какую сторону направить свои шаги, рассмотрим один из самых знаменитых образов тех драматических произведений, которые расширяют истину, не искажая ее, одну из тех редких драм, которая после трех веков существования остается еще зеленой и жизненной во всех своих частях: я разумею "Короля Лира" Шекспира. Можно утверждать, — писал я недавно, слегка преувеличивая, ибо невозможно не преувеличивать в легком и сладостном припадке горячки, которая овладевает поклонниками Шекспира, когда пред ними возникает один из его шедевров, — можно утверждать, просмотрев литературу всех времен и стран, что трагедия старого короля является драматической поэмой наиболее могучей, обширной, волнующей и напряженной, какая когда-либо была написана на земле. Если бы с высоты другой планеты спросили нас, какую пьесу следует считать представляющей наш гений, синтетической, прототипом человеческого театра, пьесой, в которой идеал наивысшей сценической поэзии воплощен с наибольшей полнотой, то мне кажется несомненным, что, посоветовавшись со всеми поэтами нашей земли, лучшие знатоки дела указали бы единогласно на "Короля Лира". Сомнение могло бы возникнуть лишь по поводу двух-трех шедевров греческого театра, или же, — так как, в сущности, Шекспира можно сравнивать лишь с ним самим, — по поводу другого чуда его гения: трагической истории о Гамлете, принце датском.