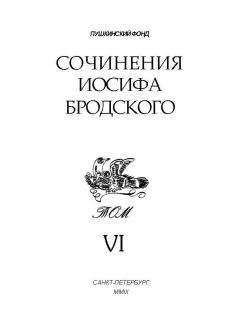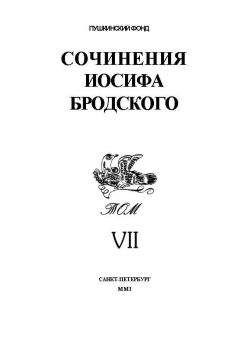Петр Вайль - Иосиф Бродский: труды и дни
Говоря о стихе Бродского, следует сказать и об эволюции этого стиха. От правильных ямбов и трехсложников он уже к концу шестидесятых перешел на дольники и тактовики:
Я не занят, в общем, чужим блаженством.
Это выглядит красивым жестом.
Я занят внутренним совершенством:
полночь — полбанки — лира.
Для меня деревья дороже леса.
У меня нет общего интереса.
Но скорость внутреннего прогресса
больше, чем скорость мира —
а в семидесятые писал уже почти исключительно ими. Таковы “Римские элегии”:
Звуки рояля в часы обеденного перерыва.
Тишина уснувшего переулка
обрастает бемолью, как чешуею рыба,
и коричневая штукатурка
дышит, хлопая жаброй, прелым
воздухом августа, и в горячей
полости горла холодным перлом
перекатывается Гораций...
или “Венецианские строфы”: “Смятое за ночь облако расправляет мучнистый парус...” и др.
Таким стихом так много никто не писал до него, дольники ранней Ахматовой совсем иные:
Память о солнце в сердце слабеет.
Желтей трава.
Ветер снежинками ранними веет
Едва-едва...
Не Ахматова, конечно (личные отношения не всегда предполагают ученичество), а Цветаева, и не только ее мировоззрение, но и отчасти поэтика — имели для него значение. И в своем эссе “Об одном стихотворении” он сам исчерпывающе сказал об этом. Ее “Новогоднее”, столь любимое им, — безусловное тому подтверждение.
Эти стихи, своими анжамбманами напоминающие шнуровку на лыжных ботинках — так шнурок крест-накрест перебрасывают с крючка на крючок, — стали для него образцом поэтической работы со словом. Скажем иначе: он мял в руках эту словесную глину, засучив рукава, его стихи не воздушны, не прозрачны, не призрачны, — читая их, мы проделываем ту же напряженную, едва ли не титаническую работу.
Вот откуда пера,
Томас, к буквам привязанность.
Вот чем
объясняться должно тяготенье, не так ли?
Скрепя
сердце, с хриплым “пора!”
отрывая себя от родных заболоченных вотчин,
что скрывать — от тебя!
от страницы, от букв,
от — сказать ли! — любви
звука к смыслу, бесплотности — к массе
и свободы — прости
и лица не криви —
к рабству, данному в мясе,
во плоти, на кости,
эта вещь воспаряет в чернильный ночной эмпирей
мимо дремлющих в нише местных ангелов:
выше
их и нетопырей.
/“Литовский ноктюрн”/
По типу своего поэтического сознания и психического устройства он принадлежал к тем творцам шиллеровско-байроновско-лермонтовского склада, которые, стремительно сгорая, не щадя себя, с их непомерно высокими требованиями к жизни, не рассчитаны на долголетие. Живи он в XVIII—XIX веке, так бы и случилось. XX век продлил ему жизнь: первая операция на сердце с вживлением искусственного сосуда была осуществлена в том роковом возрасте, о котором я здесь говорю. А затем он перенес и вторую операцию.
Пастернак в автобиографии “Люди и положения” писал: “Люди, рано умиравшие, Андрей Белый, Хлебников и некоторые другие, перед смертью углублялись в поиски новых средств выражения, в мечту о новом языке, нашаривали, нащупывали его слоги, гласные и согласные”. Нечто подобное происходило и с Бродским:
“В дело пошли двоеточья с “”, “в скучный звук, в жужжанье, суть/ какового — просто жуть,/ а не жажда юшки из/ мышц без опухоли и с” и т.п.
И далее Пастернак, говоря о Цветаевой, которая в молодости “выражалась по-человечески и писала классическим языком и стилем”, продолжает: “С Цветаевой произошли собственные внутренние перемены. Но победить меня успела еще прежняя, преемственная Цветаева, до перерождения”.
То же я чувствую по отношению к Бродскому. Мне кажется, Цветаева перегорела, и “перерождение” с ней произошло тогда, когда она пошла на поводу у языка (“Лестница”, “Поэма Воздуха”):
О, как воздух резок, резок,
реже гребня Песьего, для песьих
Курч. Счастливых засек —
Редью. Как сквозь просып
Первый (нам-то — засып!)
Бредопереездов
Редь, связать-неможность.
О, как воздух резок,
Резок, резче ножниц...
Та же абсолютизация языка, как будто подневольное служение ему характерны для Бродского позднего периода, и не только в стихах, но и в некоторых высказываниях: “...язык заставляет вас сделать следующий шаг — по крайней мере, стилистически”; он и смерть поэта склонен рассматривать как “драму собственно языка”, и в Нобелевской лекции утверждает, что голос Музы “есть на самом деле диктат языка”. Поэт — “средство языка к продолжению своего существования” и т.п.
Все это чрезвычайно убедительно, неопровержимо и, к слову сказать, совпадает с теориями, идущими от Хайдеггера, Р.Барта, структуралистов.
Но есть нечто, не позволяющее мне до конца согласиться с такой точкой зрения. Язык в таком понимании — не только речь, не только мышление, но и высшая инстанция.
“О, если б без слова сказаться душой было можно!” — вырвалось у старого поэта. Сказаться душой, без слова, в стихах не дано, но существуют стихи, которые близко подходят к решению этой задачи — и они, может быть, лучшие! “Вот как будто бы кто-то просто/ Ну... плачет вблизи?” — как сказано у Цветаевой. Есть такие же стихи у Бродского: “Тихотворение мое, мое немое...” или “... воспоминанье в ночной тиши/ о тепле твоих — пропуск — когда уснула...”
Лучшие стихи не те, которыми восхищаешься со стороны, как гимнастическим полетом в цирке; самую жаркую благодарность вызывают строки, в которых узнаешь себя, с которыми совпадаешь всем существом, без зазора: “Я не то, что схожу с ума, но устал за лето./ За рубашкой в комод полезешь, и день потерян”. При этом вовсе не обязательно в них должно быть сказано нечто самое важное — достаточно той поэтической неотразимой прелести, которая “дарит нас прибавлением жизни”, а почему — объяснить невозможно: “Дрозд щебечет в шевелюре кипариса”.
“Нет дня, чтобы душа не ныла!” — жаловался Тютчев. И то сказать, язык ведь не ноет. Ноет душа, — что бы под ней ни понимали, “Душа хотела б быть звездой!” А язык звездой быть не хочет. Ему это и в “голову” не придет, он не знает, что такое — страдание.
Бродский знал, что такое страдание. И радость. И краска, приливающая к лицу. “Рождественский романс”, “Стихи на смерть Т.С.Элиота”, “Пророчество”, “Семь лет спустя”, “Конец прекрасной эпохи”, “Post aetatem nostram”, “В Рождество все немного волхвы...”, “Письма римскому другу”, “Бабочка”, “Сретенье”, “Разговор с небожителем”, “На смерть друга”, весь цикл “Часть речи”, “Развивая Платона”, “Римские элегии” — я назвал лишь некоторые прекрасные стихи, великие стихи, все не перечислишь.
Но где-то к середине восьмидесятых или несколько раньше в его поэзии появилась интонация равнодушия и заведомого отрицания всех ценностей (не люблю это слово и прошу прощения за его появление здесь: все абстрактные понятия, оторвавшиеся от конкретных вещей, внушают тошноту — в разговоре о стихах). Еще не читая стихотворение, уже знаешь, что тебе в нем будет сказано: жизнь — абсурд, насмешка, издевательство над смыслом; ничто не стоит слез, никто не стоит любви. Единственное, что человек должен бы сделать, будь он мужествен и последователен — это вернуть творцу билет. Это похоже на то, как если бы мы жили не с человеком, а с его рентгеновским снимком. “Виноградное мясо” жизни не имеет значения, только косточки.
Но в XX веке, пережившем ужасы революций, истребительных войн и концлагерей, — отрицание жизни — такая же банальность и общее место, как телячий восторг и неугомонный оптимизм. “Нет в жизни счастья” — такую наколку носят уголовники, утверждать то же самое в стихах — значит согласиться с ними.
Бродский не только не сводится к этому утверждению, но и на треть не совпадает с ним. Ни на треть, ни на четверть, но некоторая, пусть десятая “часть” его “речи”, разместившаяся ближе к концу, заворожила многих: сотни поэтов переняли презрительно-высокомерную интонацию некоторых поздних его стихов, виртуозность и технику, лишенную живого чувства и поэтического обаяния.
Такой балласт есть у каждого поэта: у Блока, у Фета, у Цветаевой, у Ахматовой, у всех. Нет его, может быть, только у Пушкина и Мандельштама.
Может быть, не случайно он все больше переходил на прозу; как известно, проза требует мыслей, чувство при этом может быть пригашено; его блестящая английская эссеистика дышит умом, острым и парадоксальным.