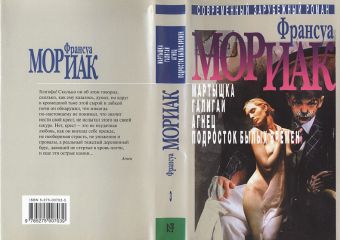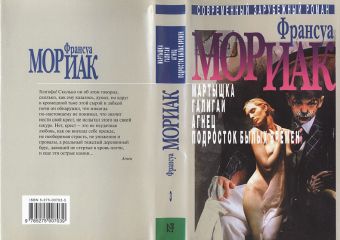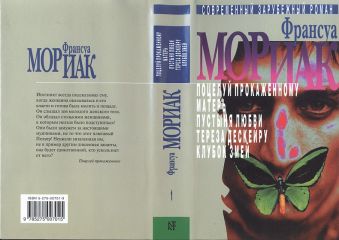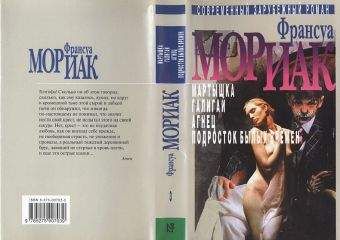Франсуа Мориак - He покоряться ночи... Художественная публицистика
Тем не менее молодые бельгийские католики решились пригласить меня прочесть лекцию. Прием, который они мне оказали, произвел на меня сильное впечатление: они встретили меня тепло, но не без настороженности. За каждой колонной стоял на страже человек в сутане. Мою речь конспектировали. Анри Давиньон *, представлявший меня аудитории, сразу оговорился: «Мы пригласили господина Франсуа Мориака, но не его героев. Мы звали не вас, Тереза Дескейру! Мы звали не вас, Мария Кросс *». Были и другие щекотливые моменты. Один из хозяев предупредил меня, чтобы я ни в коем случае не говорил в своем тосте, что чувствую себя здесь как во Франции — бельгийцы этого терпеть не могут, — поэтому на обеде после лекции я поспешил успокоить его: «Брюссель поражает меня на каждом шагу». [...]
Послесловие
Я уже собрался было поставить слово «конец», но спохватился: поскольку это страницы моей внутренней жизни, они часто идут вразрез с хронологией, так что, появись у меня биограф, они не только ничем не смогут ему помочь, но, наоборот, скорее всего собьют его с толку. Нить рассказа лишь отдаленно следует внешнему течению моей жизни. Я прекрасно понимаю: было бы самонадеянностью думать, что после моей смерти найдутся ученые и читатели, которые по-прежнему будут интересоваться моим творчеством: не мое дело заботиться, что станет с этим прахом. Но есть люди, которых это заботит. По их настоянию я и решил передать библиотеке Жака Дусе все мои рукописи. Так что теперь в Парижском университете появится фонд, который в ближайшие годы, надеюсь, еще увеличится. Это убережет от распыления плоды моей полувековой писательской деятельности.
Но, коль скоро я решился стать персонажем истории литературы, надо быть последовательным и завершить мемуары беглым обзором, так сказать, внешней стороны своей биографии. Итак, я напомню даты и кратко перечислю основные события моей жизни: приступая к выполнению этой задачи, я сознаю, что во многом уже разрешил ее, когда писал эти мемуары, предмет которых — моя внутренняя жизнь. Ибо внешне в моей жизни не произошло буквально ничего: я не участвовал практически ни в одной настоящей войне и не совершил практически ни одного настоящего путешествия.
11 октября 1885 года: я родился в Бордо на улице Па-Сен-Жорж. Я был пятым, последним ребенком в семье. Из всех моих братьев и сестер жива только моя старшая сестра Жермена, вдова профессора медицинского факультета в Бордо Жоржа Фье, родившаяся в 1878 году; трое братьев: присяжный поверенный Ремон (он сменил на этом посту нашего дядю Леона Дюссолье), лицейский священник Жан, декан медицинского факультета Пьер — перешли в мир иной. Мой отец Жан Поль Мориак скоропостижно умер от воспаления мозга 11 июня 1887 года. Так что я его совсем не помню, хотя, несомненно, именно от него унаследовал страсть к чтению и писательский дар. О том, что он разбирался в литературе, свидетельствуют оставшиеся после него книги — они подобраны с любовью, особенно те, которые он сразу после женитьбы приобрел для моей матери. В коллеже (в Туленне, около Лангона) он был первым по всем предметам. Но так как он был старшим, мой дед (так сильна была в ту пору родительская власть) забрал его оттуда до окончания учебы, чтобы приобщить к делу — торговле клепкой, ввозимой из Австрии. Только младший брат, Луи, получил право продолжать учебу. После смерти отца он стал нашим опекуном и еще при жизни отдал нам большую часть своего состояния; он окончил свои дни членом Руанского суда: я вывел его в «Тайне Фронтенаков». В 1870 году мой дед испугался и закрыл свое дело. Ему было чем заняться; он владел тысячью гектаров леса в Ландах, которые получил в приданое за женой, и виноградниками в Малагаре и Сен-Круа-дю-Моне; кроме того, на его попечении был еще просторный дом в Лангоне, где он жил (в этом доме происходит действие моего романа «Прародительница»). Поэтому у моего отца после войны не оказалось ни положения, ни диплома. Перед смертью он служил в банке.
Его вдова и пятеро детей перебрались к бабушке, которая занимала только второй и третий этажи особняка на улице Дюфур-Дюбержье. Мы сгрудились на четвертом; там началась моя сознательная жизнь. Когда мы укладывались спать, хлопала входная дверь — это означало, что мать пошла коротать вечер к бабушке. Первая тревога. Первое одиночество.
Где-то, должно быть, в 1889 году (мне было четыре года) мне попал в глаз конец кнута, которым мы играли; один из братьев пытался вырвать кнут у меня из рук, а потом вдруг резко отпустил его, и проволока угодила мне в глаз. Наша бонна Октавия, растерявшись, потянула за кнут, чтобы вытащить его, и оторвала мне веко. Пришлось пришивать его на место. Помню, как кучер держал меня, как я орал, помню свой ужас при каждом визите доктора Дюлака. Через год умер дедушка. «В начале жизни» рассказывает о его смерти; как он, никогда не ходивший в церковь, пришел туда в свой последний вечер; как произнес, прощаясь с жизнью: «В вере наше спасение...» Его жена, моя ландская бабушка, умерла в 1888 году. Помнится, я не раз вспоминал о ней.
1890-й: мне пять лет. Я хожу в детский садик к сестре Адриенне на улицу Мирай. Я панически боюсь сестру Асунсион. Мои братья учатся напротив, у марианитов, и, так как они кончают занятия только в половине седьмого, мне приходится ждать, пока за ними придут и заодно освободят и меня.
В октябре 1892 года, когда мне исполнилось семь лет, я тоже перебираюсь на противоположную сторону улицы Мирай и поступаю к марианитам. Я уже рассказывал раньше, и даже в этой книге, о своих первых школьных годах... Зато как хорошо было дома, под крылом у матери! Казалось, каникулы — это и есть счастье.
1894-й: мы уезжаем от бабушки и поселяемся в прекрасной квартире в доме № 1 по улице Виталь-Карль, на углу Интендантского бульвара. В 1895 году в Бордо побывал президент Феликс Фор *, я видел его очень близко. Он приезжал на открытие выставки, где я впервые в жизни покатался на лифте и впервые в жизни увидел движущиеся фотографии (но еще не на экране). А летом, во время каникул, в Сен-Семфорьене я впервые в жизни сел в автомобиль (он принадлежал мэру).
1896-й: год первого причастия, вечно памятная для меня дата. Через два года, в пятом классе, я поступил в Гран-Лебрен; марианиты только что купили за городом, в Кодеране, прекрасный участок и начали строить коллеж; первый камень его заложил у меня на глазах кардинал Леко (строительство коллежа было приостановлено в связи с законами против конгрегации).
В Гран-Лебрене мне было хорошо и меня любили. Между прочим, один журналист, любитель возводить напраслину на покойников, вложил в уста Франсиса Жамма немыслимые высказывания о «Местах по рангу» *; при этом мне самому он приписал злоключения одного из моих героев, полностью мною придуманные, а мать мою произвел (хороша выдумка!) в хозяйки модной лавки! «Места по рангу» не имеют ни малейшего отношения к моей жизни. В 1897 и 1898 годах мы совершили путешествие по Пиренеям с «нашим» аббатом (это притяжательное местоимение очень точно передает отношение буржуазии тех времен к священнослужителям). Это путешествие нарушало семейный закон, предписывающий тому, кто имеет честь и счастье владеть землей, проводить каникулы в своем поместье. Закон этот нарушался нами редко: несколько сезонов в Аркашоне, Люшоне и Баньер-де-Бигорре.
1899-й: моя мать, которой не сидится на месте, переезжает в очередной раз, и мы поселяемся в левом крыле старинного особняка с двором и садом на углу улиц Марго и Шеверюс. В 1900 году моя сестра выходит замуж. 1901—1902 — я ученик класса риторики; единственный стоящий преподаватель у нас — аббат Пекиньо. Я сдал первый экзамен на бакалавра, но на следующий год (1903) дважды проваливался; пришлось мне остаться в классе философии на второй год, несмотря на то что в Гран-Лебрене я был по философии первым учеником.
Я так устыдился, что решил пойти в лицей. Там преподавал Друэн (Мишель Арно, зять Андре Жида), но не думаю, чтобы в ту эпоху я уже знал Андре Жида. Наконец я стал бакалавром. Моя мать купила просторный дом на улице Роллана, 15, и поселилась в нем вместе с дочерью и зятем (который вскоре стал знаменитым бордоским гинекологом). В том же году я перенес плеврит, чем перепугал всю семью: в ту пору множество мальчиков и девочек умирало от легочных болезней — в особенности под аркашонскими соснами, потому что лечение горным воздухом еще не было известно. Несколько лет подряд смерть так и косила моих кузенов, что не могло не удручать меня; одного из них, Ремона Лорана, я очень любил. Но в те времена я совершенно не верил, что смерть может угрожать и мне.
Мне запретили переутомляться. Было решено, что я буду защищать диплом на литературном факультете в Бордо, но не раньше, чем через два года. Благодаря этому я в 1904 году слушал курс лекций Фортуната Стровского * (я любил его за то, что он был специалистом по Паскалю, но прежде всего за смелость — на одной из лекций он прочел нам стихотворение Жамма; насколько я помню, это была «Старая деревушка»). В 1905 году моим преподавателем стал Андре Лебретон, вызывавший большое восхищение и любовь бордоских дам, несмотря на свое увечье и костыли. За дипломное сочинение я получил восемнадцать баллов из двадцати. Тема его была: «Мысль о смерти обманывает нас, потому что уводит от жизни». Я стал доказывать обратное, благодаря чему получил возможность блеснуть своим знанием Паскаля. На устном экзамене я из-за полного незнания греческого провалился; сдал я его только в октябре.