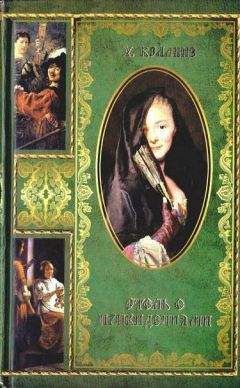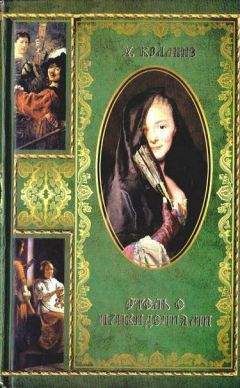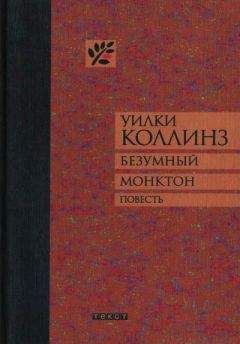Михаил Ульянов - Возвращаясь к самому себе
Так что его «ты» ко мне не указывало на какие-то наши особо тесные отношения. На добрые отношения — как деятеля культуры с правителем — не больше. Хотя, вероятно, чем-то я был интересен Горбачеву, чем-то импонировал ему. Он одним из первых посмотрел моего «Наполеона I» у Эфроса. Был в театре на моем шестидесятилетии — я послал ему приглашение на свой вечер. Я играл фрагменты из старых спектаклей. Найдя подходящий момент, он подошел ко мне, протянул руку, мы расцеловались.
Горбачев видел также «День-деньской» и «Брестский мир». «Брестский мир» он не принял. Очевидно, сказалось партийное отношение к теме, восприятие партократа. Впервые на сцене вместе с Лениным, как бы даже на равных, Троцкий, Бухарин… Наверное, это задевало «однопартийную душу» генсека. Это был яростный, резкий спектакль. На одном из представлений я даже стал жертвой этой яростности, пострадал. Там, в конце уже, Ленин в сердцах метал стул. Не в зрителей, разумеется. Стул был венский. А венские стулья нынче очень дороги: их уже не делают нигде. «Вы, — говорят мне наши работники-декораторы, — все стулья у нас переломаете». Я — им: «Так сварите железный». Сварили. И я, значит, как обычно, ахнул от души. Тут меня словно обухом по руке — хрясть… Похоже, порвал руку. Еле-еле доиграл. Потом оказалось, и в самом деле порвал связки. Пуда полтора был этот стул. Ну, это так, к слову.
Нет, не прав Михаил Сергеевич: «Брестский мир» хорошая работа по интереснейшей пьесе. Мы ездили с этим спектаклем в Буэнос-Айрес, в Лондон. Шел очень успешно, естественно с переводом. Одно время и у нас на него зрители просто ломились.
Уже после Фороса Горбачев пришел к нам в театр смотреть «Мартовские иды». После спектакля я зашел к нему и Раисе Максимовне в ложу. Минут сорок мы разговаривали. Когда вышли из театра, увидели, что его ждет толпа человек в двести. Потом нам сказали, что поначалу толпа была гигантской. Но пока мы разговаривали, многие разошлись.
А те, кто дождался, бросились к нему, окружили плотно, закидали вопросами. Вижу только белые от волнения лица охранников…
По-разному люди относятся к Горбачеву. У меня к нему — огромное уважение. Я не считаю его «разгромщиком» нашей страны. Она развалилась сама по себе. Это движение истории. Назревший ее ход. Горбачеву она, история, дала первое слово. Возможно, его еще долго будут клясть, ругать, доказывать его вину, но во что выльются начавшиеся при нем перемены, будет ясно и понятно много позже. А на нашем веку? Выльется ли все начатое в диктатуру не важно чью — его будут обвинять одни. Выльется ли в демократическое правовое устройство общества — будут клясть и винить другие.
Да, все наши политики — герои нашего времени — все они трагические персонажи. Никто не кончал мирно. Один лишь Брежнев почил в бозе, но он с самого начала был фигурой фарсовой, как бы не подлинной. Я же говорю о самостоятельно действующих людях. Кого ни возьми: либо убили, либо сослали, либо политически сняли голову. Так было, так идет, так, видимо, и будет впредь до поры, пока и в самом деле не выработается у нас правовое государство, подчиненное строгим законам, с гражданами, уповающими на свое законное Право, верящими, что только Закон им опора, защита и оборона, а не вождь — учитель — генсек — президент или того хуже — какой-нибудь знакомый мафиози с автоматом наперевес и маской на лице… А то и без маски — в обычном чиновном обличье, в дорогом костюме и при важном кабинете.
…Думаю, я должен здесь пояснить, чтобы меня правильно поняли сколько раз убеждался: пока не зачураешься: «чур меня!» — прямым утверждением, мол, я хотел сказать то-то и то-то, — тебя перетолкуют, кому как нравится. Так вот, поясняю: с эпохой Горбачева кончилось мое прямое участие в политических организациях или органах, делающих политику. Я сознательно отказался от этого. Но я никак не могу отказаться, отключиться от внутреннего своего долга человека и гражданина России иметь собственное мнение по всем проблемам, в том числе и политическим, будоражащим мою страну, моих товарищей, мой народ.
Только моя кафедра для провозглашения моей веры — не митинг, не сессия и не съезд партии. Моя кафедра — сцена, театральные подмостки, театральное служение.
Всей своей долгой жизнью на сцене я утвердился в мысли: истинный актер — всегда не просто талантливый художник, но и талантливый гражданин. Вне этого сочетания не может быть большого актера.
Театр сегодня — да и не только сегодня — ничего не может изменить, и нет у него такой задачи. И в потоке переменчивой жизни роль его — не дать забыть человека, не дать унизить человека, приподняв его искусством, сценой, талантом, мастерством. Чтобы сидящие в зале увидели себя в Человеке и укрепились духом.
Скажете, это слишком общий, слишком широкий ответ? Что ж, конкретный ответ следует искать в каждом конкретном спектакле. И искать каждому конкретному зрителю, пришедшему на этот спектакль. Потому что ведь и зритель — каждый! — участник театрального действа.
VI. Странные вы люди, актёры…
Как жаркие свечи…
Где-то прочел в воспоминаниях Маргариты Тереховой — коротких ее воспоминаниях об Андрее Тарковском, — как однажды на съемках, глядя на нее и Солоницына, он заметил: «Странные вы люди, актеры… — И, помолчав, добавил будто самому себе: — Да и люди ли вы?»
Действительно, странные люди — игру в подражание сделать профессией и держаться за эту профессию, как за последнюю соломинку, утопая и захлебываясь в водоворотах жизни, бедствуя и порой не доедая, и не искать и не желать ничего иного, лишь бы еще раз выйти на освещенную как бы и не здешним светом сцену, светом, и отделяющим тебя от темного внимания зрительного зала, и в то же время преподносящим тебя ему и всему миру как на ладони… И заставить поверить в того, кого и не было и нет на свете, но вот сейчас, сию минуту, он рожден тобою самим, твоим телом, жестом, голосом, всей твоей явной и тайной сутью. Что в этом за тайна? Почему это так волнует, так тянет снова и снова: ведь ты тратишь себя, свою собственную жизнь, чтоб за два — два с половиной часа пронеслась на сцене целая жизнь, вся жизнь твоего счастливого, или мучительно несчастного, или жестоко страдающего персонажа? И так из вечера в вечер — весь данный тебе век долгий ли или короткий.
В нашей родной действительности — чаще короткий. Сколько уходит из жизни совсем молодых актеров, сколько ушло… Светлая нежная душа Лёни Быкова, с которым мы начинали в кино, встречались в кино, совсем еще юные «комсомольцы-добровольцы»… Олег Даль… Андрей Миронов… Инна Гулая… И поколение чуть постарше: Анатолий Папанов… Иннокентий Смоктуновский… Совсем недавно — Петр Щербаков… Евгений Леонов… Что такое, что за мор на нашего брата… Говорят, злым, недобрым людям Бог веку не дает. Тут же что ни имя — добрейшая щедрая личность. Не мелочная, не ревнивая — широко распахнутая навстречу товарищам своим. Да и просто людям. А может быть, как раз напротив: щедрой души человек отдает себя миру и людям, не жалея, не взвешивая, что отдать, а что оставить.
Это вообще в традиции русского актерства. Как-то выступая на моем творческом вечере, Алеша Баталов замечательно сказал об этом: «Мы, актеры русской школы, не можем существовать от роли вдалеке: вот это — роль, а вот — я». Мы все, что имеем, бросаем в топку этой роли. Сжигаем себя. В этом особенно мощно проявляется именно русская школа актерства. Прекрасные актеры Запада они как-то умеют отстраняться… Хочется сказать, ведут роль на холостом ходу: да, блестяще, технично, виртуозно, но не отдавая своего сердца. У нас же — свечой горит жизнь актерская… Да еще и сама жизнь на нашей Родине палит ее безжалостно. Было время — задыхались от удушья всяческих запретов, тотального надзора. Так задохнулся Олег Даль. Леонид Быков. А те, кто переступил все же черту шестидесяти лет, — один за другим уходят сегодня, исчерпав просто-напросто резерв жизненных сил.
Все мы, ровесники, кому сегодня за шестьдесят, — дети войны. Началась война — нам было по девять, десять, одиннадцать, двенадцать лет… Это возраст самого сильного роста — и физического, и душевного, духовного. А мы попали в кашу войны. Кто в буквальном смысле. Кто просто голодая в тылу и при маме, как я в своей сибирской Таре. А потом — после войны — было и еще голоднее. Потом голодное студенчество, когда и по два, по три дня во рту не было ни крошки в буквальном смысле слова. А потом — всяческие осложнения социальные: то «заморозки», то «оттепели», мы все время жили в перенапряжении. И вот — результат: валятся люди как подкошенные.
Может быть, читатели вспомнят такую картину — «Тема», ее снимал в Суздале Глеб Панфилов. Я там играл с Инной Чуриковой. Одна из сцен была на кладбище. Зима стояла. И вот пока ставили камеру, готовили то и это, я бродил по кладбищу, оно уже было закрытое, то есть там больше никого не хоронили. Я бродил среди могил и читал надписи на памятниках, как мы все делаем это, любопытствуя, что за люди покоятся под ними. И вдруг заметил одну закономерность: люди, рожденные в конце прошлого века — в 1860, 1870, 1880, 1890 годах, — прожили по 80, 85, 90 лет. А те, что появились на свет в 1910–1915 — 1917 — 1920-м, — задержались на нем недолго. Ушли в 60, 65, самое большее — в 70 лет. Вот такое наглядное пособие для характеристики века нынешнего и века минувшего по части милостей его к человеку.