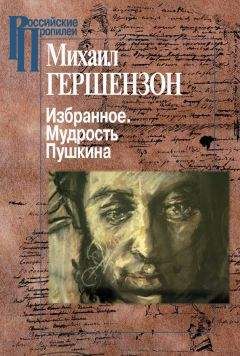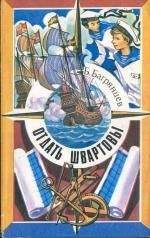Наталья Гершензон-Чегодаева - Первые шаги жизненного пути
Родители наши решили поехать лечиться в Германию, которую папа хорошо знал. Вероят-но, здесь имело значение и то, что в то время существовало международное издательство "Эпоха", отделения которого находились в Москве и в Берлине. С этим издательством папа имел деловые сношения; оно издавало некоторые его работы. Директор "Эпохи" — Белицкий был папин хороший знакомый. Находясь в Германии, папа мог опираться на связь с издатель-ством, а также получать от него материальную поддержку.
В начале 1920-х годов разрешение на выезд за границу давалось сравнительно легко, хотя, все же для этого надо было пройти определенную процедуру. Ко времени нашего приезда из колонии папа успел преодолеть все необходимые формальности.
Надеялись выехать в конце августа. Однако судьба распорядилась иначе. После нескольких дней нашего прибытия домой мы с Сережей оба заболели. У меня обнаружился брюшной тиф, у Сережи, который болел легче, нашли паратиф. Можно представить огорчение и досаду наших родителей. Пропали все мамины хлопоты. Дело нужно было начинать сначала. А мама снова принялась терпеливо и ласково нас выхаживать.
Мне кажется, что развитая, много думавшая 15-летняя девочка, какою я была тогда, должна была внимательнее относиться к тем страшным трудностям, которые у нее на глазах, и в значи-тельной мере ради нее, приходилось нести ее матери. Я же опять болела легко и весело. Тиф у меня был нетяжелый, продолжался он не 6 недель, а 4, как обычно это бывает в детском возра-сте. Лечил нас милый, издавна привычный Гольд. Я лежала почему-то в столовой, а Сережа — в маленькой комнате. Почти ежедневно к нам заходили ребята из колонии — все, кто бывал в Москве.
В середине или, скорее, в конце сентября болезни наши закончились и папа ускоренным темпом возобновил хлопоты о выезде за границу. Когда они снова были завершены, наша поездка едва не сорвалась. По правилам тех лет рукописи, вывозившиеся за границу, проверя-лись в каких-то высших инстанциях, где после проверки запаковывали и запечатывали сургуч-ными печатями. Так было сделано и с теми рукописями, которые папа вез с собой для работы и для сдачи в издательство. Не помню уже теперь, для каких целей, Мага попросила папу отвезти в Германию тетрадку ее стихов; очевидно, она надеялась их там издать. Папа согласился, и эта тетрадка прошла проверку вместе с его рукописями и была запечатана в одном с ними пакете.
Дня за два до нашего отъезда ночью на парадном вдруг раздался резкий звонок. К нам пришли с одним из тех обысков, которые стали повседневным явлением московской жизни тех дней. Помню какого-то молодого начальника, с которым пришли два солдата и понятые из нашего домоуправления. Рылись в книгах и домашних вещах.
В разговоре выяснилось, что интересуются Магой и нашими с ней отношениями. Папа не стал скрывать того, что в запечатанном пакете среди других рукописей есть Магины стихи. Начальник заявил, что пакет нужно вскрыть. Папа со всей откровенностью объяснил ему положение вещей, сказав, что если печати будут сломаны и снова придется сдавать рукописи на проверку, истечет срок заграничных виз и потребуются все хлопоты о поездке начинать сначала. Начальник выслушал папины доводы и ответил, что сам решить этого вопроса не может, а должен получить санкцию своего начальства. В то время у нас в квартире еще не было телефона, и мы проводили его вниз к Лили — к телефону.
Нам показалось, что он отсутствовал очень долго. Мы сидели в страшном напряжении, ожидая решения своей участи. На папу жаль было смотреть — он был совсем бледный. Наконец, начальник вернулся с заявлением, что пакет разрешили не трогать. У нас точно камень с души свалился. Чужие люди ушли, мы остались одни в нашей перерытой, взбудораженной ночным обыском квартире. Больше препятствий к отъезду не было.
Последние дни и часы прошли как в лихорадке. Все наши вещи снесли в две папины комнаты наверху и там заперли. В столовую должен был на время нашего отъезда переселиться из комнаты за кухней Яков Захарович Черняк, незадолго перед тем женившийся. В маленькой комнате предложили пожить Юре Бобылеву, который нуждался в жилье. Но эти переселения произошли уже после нашего отъезда. Мы оставили нижние комнаты оголенными, пустыми.
В моей памяти ярко запечатлелись некоторые моменты тех дней, которые протекли между нашим с Сережей выздоровлением и отъездом. Маме пришлось подумать о том, чтобы как-нибудь одеть нас в дорогу, так как мы были совершенно раздеты. Мне она купила готовые вещи: синюю шерстяную юбку, заложенную простроченными складками, и к ней шерстяную же синюю блузку. А Сереже заказали брюки и тужурку у портного. И мне почему-то очень запомнилось это посещение. Помню большую комнату в подвальном этаже, заставленную вещами и засоренную обрезками тканей. Помню жену портного и нескольких ребят, а также его самого, сидящего с подогнутыми ногами на большом стуле, — по обычаю портных старого времени. Я впервые попала в такую обстановку и увидела быт ремесленного семейства, который произвел на меня очень сильное впечатление.
Навсегда осталась в моей памяти также прощальная прогулка по Москве вечером накануне отъезда. Папа пошел со мной и Сережей нашим любимым с детства маршрутом — по Гагарин-скому переулку, вокруг храма Христа Спасителя, по расположенным около него над рекой скверам. Мы шли медленно и говорили о Москве, которую покидали. Были в размягченном, лирическом настроении.
Я тогда впервые почувствовала, как я люблю родные места, и столь свойственное мне впоследствии чувство ностальгии впервые овладело моей душой. О Москве говорил нам и папа. Как всегда то, что было предметом его I слов, приобретало особенно весомый, значительный смысл. Мы говорили о московских мостовых, переулках, Домах, о московском, единственном для нас воздухе. Может быть, содержание нашего разговора во время этой вечерней прогулки было и не совсем таким, как я его сейчас описываю, но так оно мне запомнилось Первое в жизни прощание с Москвой… Первый отъезд в неизведанную даль…
Дорога в Берлин
С ранней юности, почти с детства, у меня возникла потребность к закреплению прожитых мгновений. В колонии я писала дневник, но позже его уничтожила, рассердившись на папу, который сказал мне, что прочел мои записи. Всю жизнь потом я жалела об этих погибших страничках. Когда мы поехали за границу, я вскоре почувствовала неповторимую особенность этих дней и, еще находясь в Германии, начала подробно записывать все происшедшее со мной за время отъезда из колонии. Эта наивная детская запись, местами немного смешная, но полная свежести чувства и точная по фактам, осталась незаконченной Но то, что записано, позволяет мне теперь легко восстановить в памяти ход событий.
День отъезда и самый отъезд так описаны в моей детской записи:
"Этот день несся каким-то вихрем. Я бегала к дяде Шуре за деньгами, потом сидели в томительном ожидании, пока вернется папа с билетами. Наконец позвали извозчика, все ехали на трамвае, только я с папой на извозчике. Ехали по каким-то частям города, в которых я нико-гда раньше не бывала. Я все старалась лучше запомнить дома, мимо которых мы проезжали, потому что думала, что не скоро еще попаду в Москву назад".
Ехали мы на Рижский вокзал, который тогда носил название Виндавского. Путь этот занял не менее часа, и мы всю дорогу с папой разговаривали. О чем говорили, теперь я не помню. Но знаю, что, охваченная волнением и грустью расставания с Москвой, я старалась очень выразить эти свои чувства словами. Позже папа говорил, что ему было радостно слушать меня, потому что я, как он выразился, расстегнула одну пуговку и приоткрыла перед ним щелочку в свой внутренний мир. Очевидно, у него было чувство, что он знакомится с повзрослевшей дочкой, с которой впервые так близко соприкоснулся после долгой разлуки во время ее жизни в колонии.
Дальше записано так: "На Виндавском вокзале было много народу Все наши уже ожидали нас там. Я не помню грусти прощанья, потому что сперва мы все бегали, искали одну даму, которая должна была уехать тем же поездом, но не найдя ее, почти тотчас же были разделены толпой с провожавшими нас Лили, Верой Степановной Нечаевой, дядей Колей и Яковом Захаровичем". (Помнится, эта дама была теософка, к которой у нас было какое-то поручение.)
Впоследствии Лили рассказала мне, что ей надолго запомнилось мое лицо, каким она видела его через стекло вагонного окна — напряженно-взволнованное и грустное. А у меня на всю жизнь запечатлелась в памяти первая ночь в вагоне.
Ехали мы комфортабельно — в мягком вагоне 2-го класса, одни своей семьей в четырех-местном купе. Мы с Сережей лежали на верхних полках, а папа с мамой — внизу. Папа всю ночь отчаянно кашлял Я не спала и мучительно переживала его кашель. Мне страстно хотелось остановить его, чем-нибудь смягчить, смазать папино намученное горло В то же время под стук колес подгонялось слово "навсегда, навсегда".