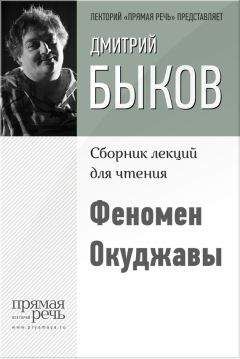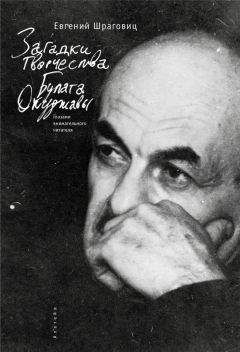Станислав Рассадин - Книга прощания
В «Сандро из Чегема» – уверен, одном из лучших романов российского XX века – есть даже, кажется, перехлест этого оптимизма.
«Гапринди шаво мерцхало… Лети, черная ласточка, лети…» – поют на «пиру Валтасара» песню, какую, говорят, в самом деле любил Сталин, и она, фантазирует Искандер, сказочным образом освобождает душу бывшего Coco Джугашвили:
«Ему видится теплый осенний день, день сбора винограда. Он выезжает из виноградника на арбе, нагруженной корзинами с виноградом…Поскрипывает арба, пригревает солнце. Сзади из виноградника слышатся голоса домашних, крики и смех детей.
…Он проезжает и чувствует, что всадник из Кахетии все еще глядит ему вслед. Он даже слышит разговор…
– Слушай, кто этот человек? – говорит всадник, выплескивая из кружки остаток воды и возвращая ее хозяину.
– Это тот самый Джугашвили, – радостно говорит хозяин.
– Неужели тот самый? – удивляется гость из Кахетии. – Я думаю, вроде похож, но не может быть…
– Да, – подтверждает хозяин, – тот самый Джугашвили, который не захотел стать властелином России под именем Сталина».
И объясняет, отчего не захотел: «…Крестьян жалко. Пришлось бы, говорит, всех объединить. Пусть, говорит, живут сами по себе, пусть каждый имеет свой кусок хлеба и свой стакан вина…
– Дай Бог ему здоровья! – восклицает всадник. – Но откуда он знает, что будет с крестьянами?
– Такой человек, все предвидит, – говорит хозяин.
– Дай Бог ему здоровья, – цокает гость из Кахетии… – Дай Бог…»
Знаменитый искандеровский юмор. Его парадоксы, которые, впрочем, вовсе и не парадоксы, не вывернутые наизнанку общие места, а гримасы жизни и человеческого сознания, словно бы лишь подсмотренные писателем. Наконец, его же сарказм, опирающийся на горький наш опыт, – черта с два он откажется от такой перспективы.
(В экранизации «Пиров Валтасара», мягко говоря, неравноценной своей основе, есть, однако, недурная придумка: огромный Алексей Петренко, играющий Сталина, восседает на арбе, держа в руках козленка, но будучи облаченным в привычный «сталинский» полувоенный костюм, эту униформу всего его окружения, вождей всех рангов.) И среди стихии юмора и сарказма – сугубая подлинность неспешной крестьянской беседы, пленительного для автора образа жизни; островок гармонии, не искаженной даже уродливым самосознанием свирепого персонажа.
Мало того.
– Тут, пожалуй, есть привкус жалости, – предположил Искандер, когда мы с ним говорили именно об этом эпизоде «Сандро» (а я записал беседу по горячим следам).
– К Сталину?!
– К человеку, который убил в себе душу. Некоторые говорили мне об этой сцене: вот какой сатирический образ!… А я подсознательно ощущал жалость к погибшей душе.
– И потому вроде бы вдунул в него свою собственную?
– Наверное… Во всяком случае, тут у меня, у наблюдателя, был подсознательный ужас. Ощущение, что отсутствие души неминуемо карается страшным наказанием. Не религиозный ужас, но что-то такое было…
– А может, не только жалость и ужас, но и любовь? Я вот в каком смысле. Немирович-Данченко, когда пытался доказать Горькому, почему ему не удались «Дачники», писал: автор не любит своих персонажей! А вот Гоголь, не любя прототипов своего городничего, им самим – как художественным созданием – любовался… У тебя – тоже так?
– Безусловно! Вообще, я давно уже думаю, что в любви писателя к своей натуре есть элемент аморальности. Или, верней, доморальности. Он всегда испытывает приступ нежности, когда встречает в жизни свою натуру. И эта некоторая доморальность в том, что писателю все равно, какое это своеобразие – низкое или высокое. А нравственное чувство заключается в том, что писатель со всей доступной ему точностью передает истинные черты этойнатуры. Истинные – то есть не старается выдать низкое за высокое или наоборот…
– Но тут все-таки случай особый. Сталин ведь, к сожалению, не плод фантазии писателя Искандера.
– Все равно. Вот я слушал актера Сашу Филиппенко – как он читает «Мертвые души», кусок с Ноздревым. Это замечательно! И я подумал, как я был прав в том, что весь космос – внутри человека. Надо разматывать этот космос, и силен тот художник, который правильно поймет задачу и сосредоточится на ней. Там, внутри, все есть – сумей только присмотреться и увидеть. Понимаешь, у Гоголя в той же сцене с Ноздревым возникает – на высочайшем уровне – эффект фокусника, который вытягивает изо рта бесконечную ленту. Нам кажется: все, что можно сказать, уже сказано, а он – еще, еще, еще… Гений Гоголя – в чудовищно пристальном интересе к душе человека, когда радость узнавания этой души как бы превосходит ее нравственную оценку. Вообще, я бы сказал так. Мне кажется, есть некий закон искусства, который, наверное, действует во всех искусствах, но в литературе – точно. Говорят, что художник отличается от фотографа тем, что фотограф фиксирует состояние человека в данный момент, а художник видит и прошлое и будущее. Но это не главное их различие. Главное – то, что художник вкладывает в картину субъективную творческую энергию, которая всегда превосходит энергию сюжета. И степень таланта художника есть степень превосходства его творческой энергии над энергией сюжета…
(Замечание в скобках: формула, по-моему, блистательная!)
– …Например, – продолжал Фазиль, – художник изображает бессилие человека. Сильный художник изобразит его с такой мощью, что, с одной стороны, мы художественно воспринимаем состояние бессилия, но, с другой стороны, эта энергия нас укрепляет…
– Как в «Скучной истории» Чехова.
– Или у Блока: «Ночь, улица, фонарь, аптека…» – какое ощущение мировой пустоты. Или – весь поздний Мандельштам. Он сам погибает и предчувствует это, его мир распадается, но его энергия нас укрепляет. Помогает нам жить…
Пока – прервемся.
Экспериментально спрошу – на сей раз себя самого (как, разумеется, экспериментальна в некотором роде и наша беседа: задавая вопросы, я мог предвидеть характер ответов, на них-то и провоцируя моего друга, – то не был обычный застольный треп, запись делалась «для других», для публикации). Итак: не слишком ли получается благостно?
С этой страны, как ковер со стены, содрали этический слой
Дворянства! И великий народ стал великой туфтой.
Грустно. И ни черта не понять, чтб там мозгует режим:
Северным рекам шеи свернуть или отнять Гольфстрим!
В галстуках новая татарва. – Впору сказать: «Салям!»
Я улыбаться учил страну, но лишь разучился сам.
Что, и это – тоже «помогает жить»?
Не то чтобы с гор или с неба упал и отряхнул штаны,
Я генетически не совпадал с рефлексами этой страны!
Мимика, жесты, мигающий глаз, пальцев хозяйский знак.
Я понимать не желаю язык сторожевых собак!
При такой-то явственно киплингианской закваске, которая сама по себе уже предполагает цельнометаллическую мужественность безо всяких там комплексов, – и вдруг отчаяние, раздраженность, нервность! Словно интеллигентский тик на медном лице.солдата. Тем не менее…
Если сам наш XX век – век разломов и катастроф, то в литературе он – век антиутопий. Того мрачнейшего рода словесности, который изображает, а по сути – сулит человеку и человечеству наихудшую из перспектив. Безысходную деградацию. Напряжем свою память: «Мы», роман Евгения Замятина… Платоновский «Чевенгур»… «Роковые яйца» Булгакова… Из «ихних»: «Машина времени» Уэллса, «Война с саламандрами» Чапека, «1984» Оруэлла, далее – бессчетно.
Сожалеть, что в нашем прошедшем столетии – впрочем, не стоит обольщаться, мы продолжаем в нем жить, ибо конец века никогда не совпадает с двумя нулями хронологического рубежа, – словом, сожалеть, что пессимизм увлекал лучших художников, поздно и глупо. Все равно что уподобиться идиоту Панглосу из вольтеровской повести «Кандид, или Оптимизм». «Все к лучшему в этом лучшем из миров». Не к наихудшему ли – и в наихудшем?
И вот наш Фазиль Искандер – в этом отношении не вижу ему подобия во всей современной литературе, включая мировую, – в век антиутопий создает целых две Утопии. Имею в виду книгу о мальчике Чике и роман о лукавце Сандро; гармонию детства и гармонию народной, крестьянской жизни.
Скажете: та и другая гармония – из невозвратного прошлого? Увы, да, ибо детство хоть и возобновляется в иных поколениях, но уже по-другому, не так, а о своем собственном остается лишь ностальгически вспоминать; о патриархальном мире абхазского Чегема и говорить нечего. Даже то, что Искандер от щедрой души впустил на единый миг в свою радостную Утопию «самого неулыбчивого человека» (определение, данное им Сталину и, с его точки зрения, убийственное), который так много сил положил на то, чтоб Утопия стала Атлантидой после потопа, – даже или именно это, при всем сказанном мною прежде, есть приговор ей. Приговор, чья реальность подтверждена присутствием палача.