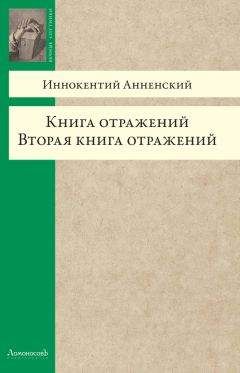Иннокентий Анненский - Вторая книга отражений
Красота всех этих девушек и женщин, но странно — никогда не замужних, если красота их точно должна быть обаятельной, — не имеет в себе, в сущности, ничего соблазнительного. Правда, карамазовщина наложила на Грушеньку своеобразный отпечаток, но внешний момент ее характеристики мало удался Достоевскому, да и хотел ли он дать нам почувствовать обаяние Грушеньки? Во всяком случае наружность Грушеньки напоминает скорее паспорт ярославской крестьянки. Лизавета Смердящая вышла куда рельефнее Грушеньки. Зато Настасья Филипповна, Аглая и другие как-то уж слишком великолепны. И при этом они не только сеют вокруг себя горе, но даже сами лишены отрадного сознания своей власти. Это прежде всего мученицы, иногда веселые, дерзкие, даже расчетливые, но непременно мученицы. В женщине, правда, Достоевский красоту все же допускал и даже, пожалуй, по-своему любил. Но красивые маски мужчин, как Ставрогин и Свидригайлов, были ему отвратительны и страшны, хотя страшны и совсем по-другому. Если у женщины красота таила чаще всего несчастье, рану в сердце, глубокое и мстительное оскорбление, то в мужчине красота заставляла предполагать холодную порочность. Юлиан Мастакович[28] на елке — вот что такое красивый мужчина в творчестве Достоевского. Катерина Ивановна истерической силой своей красоты погубит Митеньку, но Свидригайлов видит во сне ребенка, которого он оскорбил и довел до самоубийства. Красота женщины у Достоевского — это сила, это — угроза, это, если хотите, даже ужас, в ней таятся и муки и горе. Но красота мужчины масочна, и за нею всегда ищи или зверства, или низкой похоти, она фальшива, она ненужна, и потому она развратна.
Толстого в молодости редко занимал вопрос о красоте. Только в одной из ранних повестей попробовал он заняться анализом ее обаяния, и там красивая женщина оказалась сильнее «юнкиря».[29]
На этом опыте Толстой тогда и остановился. Только позже, уже начиная с «Войны и мира», для Толстого красота определилась в качестве хитрого врага.
«Прикидываясь моей добычей, этот враг хочет меня погубить, но я разгадал его фортель, и придет время, когда я с ним посчитаюсь». Красавица Элен поймала Пьера, но медвежонок вырос и окреп в ее объятиях, и он от нее ушел. Сама же красавица умерла, и смерть ее была самая безобразная и страшная. После «Войны и мира» добычей Вронского соблазнительно прикинулась Анна Каренина, но и эта в конце концов оказалась осиленной. Был ли то Вронский или она сама? Нет, это вся спутанная ею в угоду страсти и на потеху красоте, спутанная и смятая жизнь наконец возмутилась и толкнула Анну под поезд. Женская красота для Толстого должна быть непременно скромной, как фиалка, и прятаться под большими полями шляпы. Красоте в жизни полагается лишь одна минута надежды на счастье, пока шляпа с большими полями и pince-nez[30] ученого склоняются над так и не названным грибом.[31] Не удалось — скройся, подурней и оставайся на всю жизнь общей тетушкой, Софи из «Войны и мира».
Удалось — рожай и корми, корми и рожай.
Музыки даже не слушай, один бог знает, что еще может из музыки выйти!
Следующий акт в борьбе Толстого с красотой разыгран в «Крейцеровой сонате». Его заполняет красивая женщина, убитая за прелюбодеяние, может быть, даже за одно кокетство; главным же образом и не за прелюбодеяние, и не за кокетство, а за то, что Толстой с молодости не может видеть женского стана, обтянутого джерси. Это его каприз, это — идиосинкразия великого человека. Наконец, последним фазисом победоносной борьбы Толстого с женской красотой являются две «женщины» из романа «Воскресение», одна в публичном доме и потом на каторге, другая среди блестящего общества, в ложе, где она глазами напрасно пытается склонить облюбованного ею человека к привычному для нее самой акту.
ЮМОР ЛЕРМОНТОВА[32]
Мечта Лермонтова не повторилась. Она так и осталась недосказанной. Может быть, даже бесследной, по крайней мере, поскольку Толстой, единственный, кто бы еще мог ее понять, рано пошел своим и совсем другим путем.
Как все истинные поэты, Лермонтов любил жизнь по-своему. Слова любил жизнь не обозначают здесь, конечно, что он любил в жизни колокольный звон или шампанское. Я разумею лишь ту своеобразную эстетическую эмоцию, то мечтательное общение с жизнью, символом которых для каждого поэта являются вызванные им, одушевленные им метафоры.
Лермонтов любил жизнь без экстаза и без надрыва, серьезно и целомудренно. Он не допытывался от жизни ее тайн и не донимал ее вопросами. Лермонтов не преклонялся перед нею, и, отказавшись судить жизнь, он не принял на себя и столь излюбленного русской душой самоотречения.
Лермонтов любил жизнь такою, как она шла к нему: сам он к ней не шел. Лермонтов был фаталистом перед бестолковостью жизни, и он одинаковым высокомерием отвечал как на ее соблазны, так и на ее вызов. Может быть, не менее Бодлера Лермонтов любил недвижное созерцание, но не одна реальная жизнь, а и самая мечта жизни сделала его скитальцем, да еще с подорожною по казенной надобности.[33] И чувство свободы и сама гордая мысль учили, что человек должен быть равнодушен там, где он не может быть сильным.
Не было русского поэта, с которым покончили бы проще, но едва ли хоть один еще, лишь риторически грозя пошлости своим железным стихом,[34] сумел бы, как Лермонтов, открывать ей более синие дали и не замечать при этом ее мерзкого безобразия. Не было другого поэта и с таким же воздушным прикосновением к жизни, и для которого достоинство и независимость человека были бы не только этической, но и эстетической потребностью, не отделимым от него символом его духовного бытия. Лермонтов умел стоять около жизни влюбленным и очарованным и не слиться с нею, не вообразить себя ее обладателем ни разу и ни на минуту.
О, как давно мы отвыкли от этого миража!
Русский поэт впервые отпраздновал свой брак с жизнью, а точнее, принял ее иго в тот день, когда Гоголь произнес не без позы страшное слово Пошлость. С тех самых пор жизнь стала для нас грязноватой бабой, и хотя такое сознание бывает подчас и очень обидным, но мы утешаемся тем, что, по крайней мере, у нас у каждого есть теперь теплый угол, куда можно спрятаться, и где разве тараканы помешают умозрению. Теплый угол наш не лишен и сентиментальных развлечений, но особенно донимает нас баба двумя: мы то и дело должны играть с нею или в Покаяние, или в Жалость. И надо отдать нам справедливость, хотя мы и делаем это иногда несколько засаленными картами, но исступленно. Бывают, правда, и попытки сбить с себя бабьи путы, но баба, хотя и грязновата, а прехитрая.
Недавно у Чехова мы ее положительно не узнали, так она разрядилась и надушилась даже. А кто не читал таких страниц Толстого, которые просто-таки дурманят нас миражем господства над жизнью?
Какая уж тут баба! Ну, право же, Толстой участвовал в творении! Но, увы! Вглядитесь пристальнее в написанное Толстым и вы с тоскою заметите, что как раз эти-то особо обаятельные для нас страницы своей красотой наиболее разуверяют человека в возможности сохранить свою особость, свою мысль — быть собою, пусть может быть миражным, но единым и несоизмеримым. Нет, — говорят они, — будь конем и бубенцами, будь белой пургой, будь каляным бельем, которое мертво трепыхается сквозь эту пургу на обледенелой изгороди,[35] живи за всех, думай за всех, только не за себя, потому что все допустимо, все, может быть, есть и на самом деле, только не ты, понимаешь ли — не ты!
Толстой не мог изобрести для своего буддизма символа страшнее и безотраднее, чем его труд. Эстетически этот труд, им обожествленный, есть лишь черный камень Сизифа.[36]
Катайте его, люди, до устали и без устали. Множьтесь, если уж так хотите, но лишь затем множьтесь, чтобы успешнее, т. е. безнадежнее, катать свой камень. Это во всяком случае поможет вам не думать, а главное, поможет каждому из вас не сознавать себя самим собою. Это поможет вам даже примириться с единственным остатком самости, который я еще оставляю вам, т. е. страхом смерти. Да и зачем вам еще своя мысль, люди, когда я, ваш пророк, один за всех и раз навсегда передал вам мое великое отчаяние? Этого ли вам мало?
О, пророк! Магомет оставил своим людям, по крайней мере, черную Каабу.[37] И вот правоверные идут со всего мира к ней: они разуваются, целуют камень, они плачут, но потом все-таки уходят к себе курить наргиле[38] и целовать своих гурий. Но зачем же хочешь ты, о, пророк наш, чтобы мы и молились на черный камень Сизифа и беспрерывно катали его?..
Достоевский болел, и много болел, и притом не столько мукой, сколько именно проблемой творчества. Черт все хотел осилить его, раздвоив его я: divide et impera.[39] Юноша Достоевский дебютировал Голядкиным, и почти старик ушел от нас в агонии Ивана Карамазова. В промежутке уместилась целая жизнь, и какая жизнь, но Достоевский все же удалился осиленным.