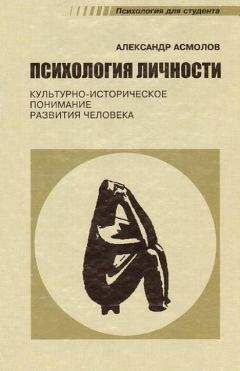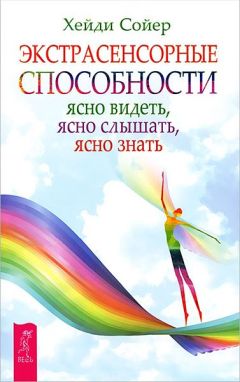Александр Свободин - ДЕВОЧКА ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ
Происходит неожиданное. Она смотрит на «Демона», на закатное поле, окрашенное светом нездешнего мира. Там, среди цветов, похожих на кровавые капли, Пан с перламутровым блеском в глазах. Тамара смотрит и молчит. Она встревожена. Оглядывается на меня, переходит к другой картине. Возле «Сирени» стоит долго. Там кто-то скрывается, в сиреневой гуще, или там никого нет? В школьном дворе летом тоже сирень. Когда идешь вечером, кажется, что кто-то стоит за кустами. Или это только кажется? Нет, там все-таки кто-то есть. А сирени так много, точно кроме нее на свете ничего нет. Она живая, обнимает черно-лиловой мглой и запахом. И вообще странный этот художник, куда-то манит, недоговаривает. Тамара смотрит: мазки, мазки, мазки — видно, как ходила кисть, лепила руки демона. Но краска образует что-то новое. Это новое светится. Светятся крылья Царевны-Лебеди, горят глаза Пана, огонь в глазах испанки, движением, как взмах кинжала, отвернувшейся от кавалера.
Тамара взволнована. Я вижу, что она взволнована. Для меня это полная неожиданность. Если бы я читал ей курс лекций об искусстве, я подводил бы ее к Врубелю долго и постепенно. Не зная цифр, нельзя понять математику. Но искусство живет по своим законам. Не слишком ли часто мы забываем об этом, стараясь разъяснить его до донышка?..
Врубель — художник сложный, нелогичный, нездоровый. Он любил сказку и тайну, а вот взволновал девчонку, которой все надо, «как настоящее». Николай Рерих тоже любил сказку и тайну. Цвет на его картинах — мечта о жизни неземной. Так казалось на его выставке. А Юрий Гагарин писал потом, что космическое небо на границе дня и ночи светится цветами Рериха.
Врубель оказался первым художником, подействовавшим на девушку так, как должно подействовать на человека искусство. Он прикоснулся к тревоге; что жила в ней. Притягивающими красками, манящей неизвестностью на мгновенье в мир ее предчувствий, о которых она не только не могла говорить ни с кем, но даже, если б и захотели говорить, не сумела бы выразить их словами. Это готовность к жизни, переполняющая нас в молодые годы, неповторимое по напряженности чувств время.
До этого дня Тамара, воспринимала искусство со стороны, словно через дорогу, знакомилась с ним, «проходила» его, стремилась увидеть все новые и новые его проявления. Это было развлечение, непрерывный праздничный пир молодого любопытства. Ей всюду хотелось бывать, все видеть — и картины, и спектакли, и кинофильмы, и живых актеров, и платья актрис, и танцы балерин и десятки тысяч кричащих людей на стадионе. Это был сплошной поток, и главное для Тамары заключалось в том, чтоб в этом потоке не было пауз и чтобы отдельные его части быстро сменяли друг за другом. Сосредоточиться долго на чем-нибудь одном ей было трудно. Казалось, что она теряет драгоценное время, что в этот самый момент в другом месте, где она могла бы быть, происходит еще более завлекательное. Искусство давало одну только радость — смену впечатлений.
Но случаются у человека в жизни мгновения полного слияния с искусством, когда оно уже не сладкий сироп для удовольствия, а глоток воды в пересохшем горле. На выставке Врубеля я стал свидетелем такой минуты в жизни Тамары. Она не подозревала ни о чем — просто ей нравились картины. Но это была такая минута.
Потом, на улице, Тамара расспрашивала меня о Врубеле, его жизни, привязанностях, сетовала, что нет его в «Школьной Третьякове». (А он был в их «Школьной Третьяковке», только она его не замечала, да его и невозможно было заметить по маленькой, тусклой репродукции). Она возвращалась к Врубелю и через неделю, и через, месяц. Он мелькал в ее разговорах: «Как у Врубеля», — говорила она…
* * *Идут дни. Я езжу в школу в Коломенское, говорю с ребятами об искусстве, бываю у Тамары дома. Она вечно в движении. Ее наклоненная вперед фигура вот-вот сорвется в бег. У нее прежние увлечения — баскетбол, танцы (она разучивает шейк) и оперетта. Ей нужно искусство, где движение и яркие краски, и где все названо сразу, Грусть, так грусть, радость, так радость. Она любит танцевальные фильмы вроде «Серенады солнечной долины», на который стояла полтора часа в очереди за билетами в «Повторный» кинотеатр, и такие спектакли и телепередачи, где много смеются, веселая путаница и непременно бурные переживания влюбившихся с первого взгляда. Легкий эстрадный: концерт она может смотреть весь день и весь вечер. Пусть все меняется, все новое и новое, и пусть уходит из сердца, как только отзвучит.
Ей трудно читать длинные романы и ходить в театр на медленные, как она их называет, пьесы, где долго разговаривают и надо следить за сложными отношениями героев и обдумывать каждый их шаг. Тамаре не нравятся фильмы и спектакли, где нет быстрого развития действия. Ей скучно…
И все-таки, Тамара уже не та, что в начале учебного года, когда она ходила с экскурсией на художественную выставку и написала свой отзыв в книгу. Она подолгу шепчется с подругами на переменах, жадно листает книжки, чтоб скорее прочитать любовные сцены, и неотрывно глядит на экран телевизора, когда там говорится об этом. К ней пришло время этого. И замирает Тамарино сердце от сладкой тоски. Как-то, среди неторопливого разговора, она остановила меня вдруг и странным голосом спросила:
— Александр Петрович, это плохо, если я позвоню на пять минут раньше, он не подумает, что…
Я понял, что во все время нашего разговора она думает только об этом…
Теперь, когда я спрашиваю ее: «Какая твоя любимая картина?», Тамара отвечает: «Сирень» Врубеля.
— А как же твой отзыв, помнишь — разве нельзя рисовать гладко? — спрашиваю я.
— Ну и пусть, а Врубель это другое! — с вызовом отвечает она.
* * *В эту зиму Тамара с подружками пристрастилась ходить на встречи с артистами в дом актера. Просила меня давать ей билеты. В Доме актера обсуждали спектакли. Обсуждение девушек не очень интересовало, им хотелось посмотреть живых актеров. Они занимали места в зале на пятом этаже, а потом бежали вниз встречать артистов в парадном и провожать их до лифта.
Меня всегда удивляла эта девичья восторженность при виде знаменитых артистов. Я долго жил в доме возле Большого театра и с детства помню несущихся куда-то девчонок с вытаращенными глазами и сбившимися прическами, составляющих группы и группочки, о чем-то договаривающихся и вновь бегущих. К девочкам относились у нас на улице как к блаженным, считали это болезнью.
Когда я увидел, как Тамара с подружками бросилась вниз встречать артистов, я вспомнил этих девочек. У нее были точно такие же. Мне стало досадно. Тамара и такая. Но зачем, откуда эти влажные глаза?.. Вот они вошли, герои сегодняшнего вечера, и кругом зашептали, зашушукались.
— Костюм, а в прошлый раз он в коричневом был..
— В «Идиоте» играл…
— «Шведскую спичку» видела?
— Его в прошлый раз спрашивали, он сказал…
Крепкий запах духов. Вестибюль тесный, жара. Запрокинутые, чтоб лучше видеть, головы. Блестящие из-под наведенных ресниц глаза. Если бы девушки могли видеть себя сейчас со стороны! Наступил недостойный человека момент его интереса к искусству. В эти минуты людьми движет не любовь к нему, не желание узнать, как оно делается, а странный инстинкт, почти биологический азарт. (На этих минутах выращен мировой культ кинозвезд, когда специальная и общая пресса ежедневно возбуждает интерес западной публики к интимной жизни артистов, создавая некий эталон недостижимо прекрасной «божественной» жизни).
Во время речи очередного выступающего Тамара с подружками продолжали шепотом вспоминать картины, в которых снимались сидящие на сцене артисты, спектакли, где посчастливилось их видеть. Конечно же, информировали друг друга о том, кто на ком женат, если жена оказывалась актрисой, то о том, где играли супруги вместе. Потом откровенно зевали.
И в самом деле, было скучно, когда человек выходил на трибуну и по бумажке, заполненной словами, взятыми из газетных рецензий, читал. Но таких было мало. Больше выходили те, кого переполняла потребность сказать всем, что они чувствовали, когда смотрели фильм или спектакль, и что они думают.
Пришел вечер, когда и Тамара попросила слова.
* * *Наша первая встреча произошла в прошлом году. Весной все реже ездил в Коломенское — у десятиклассников подошли экзамены. В сентябре Тамара позвонила мне и сказала, что ее приняли по конкурсу в Первый медицинский институт. Я поздравил ее, пообещал приехать, но как-то не получалось. Зимой мы неожиданно встретились в Доме актера. Тамара была совсем иной, не похожей на ту девочку, которая вошла около года назад в кабинет директор школы. Она похудела, еще больше вытянулась. Экзамены «засушили», — улыбнулась. Но улыбка была не прежняя Тамарина улыбка, предвестье громкого хохота. Улыбнулась спокойно.