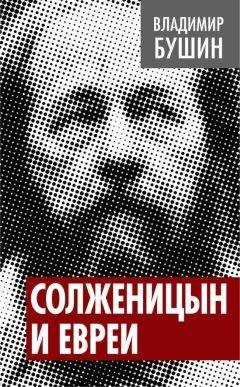Игорь Гергенрёдер - Солженицын и Шестков
Болото забытого, «выброшенного вон из головы» оказывается не бездонным. Но дно открывается при погружении, которое есть не что иное, как взлёт — когда Игорь Шестков даёт с высоты увидеть типичность вины, наполняющей время. Типично и то, что виновные признают себя таковыми слишком поздно — становясь сверхпредельно чуткими. Невыразимая мука для них — близость приходящих за ответом. Право пришедших неоспоримее безысходности.
Этим рассказы Игоря Шесткова противопоставляются «Одному дню Ивана Денисовича». Разве же можно вообразить, чтобы Ивану Денисовичу, каким его сотворил Солженицын, хотя бы приснилось, что он пришёл за ответом к тому, кто причинил ему зло? Солженицынский герой нарисован пальцем на сахарном песке. Потому-то в сегодняшней российской жизни не видать внуков Ивана Денисовича — тружеников, которые испытывали бы радость от хорошо сделанной работы, независимо от оплаты и условий быта, и были бы убеждены: «Легкие деньги — они и не весят ничего».
Зато внуки старичка Типенко заявляют о себе своими делами. Внуки тех, кто варил студень из трупов соседей, — у власти. Кто иной распорядился бы устроить громадную городскую свалку на костях солдат, погибших за освобождение Ленинграда? Об этом — в статье Виктора Правдюка «За что?» (16 января 2009), см. http://www.ej.ru/?a=note&id=8745
«Кратчайшая дорога к Неве от Гайтолово — Мги шла через Синявинские высоты, которые были сверхтщательно укреплены противником. И наши бездарные кулики и мерецковы укладывали здесь одну дивизию за другой /…/ Конечно, павших после этих гиблых атак не хоронили и не пытались хоронить. По оценкам групп фонда „Поиск“, лежат там между Гайтоловым и Мгой около ста тысяч наших солдат /…/ Бесполезные жертвы рождают неверие. Неверие — кризисная фаза развития народа, цепная реакция распада, сорванный стоп-кран, из-за чего состав летит под откос. Бесполезные жертвы — это генетический беспредел, бесовский разгул /…/ Судя по всему, мы хотим продолжать лгать, в очередной раз прикрыть мусором наши напрасные жертвы /…/ именно на самом болевом участке той безумной войны великий город решил учредить свалку. — Виктор Правдюк сообщает в заключение: …восемь мусоровозов (пока я пишу эти строки) уже вывалили свой груз на землю, усеянную костями тех, кто отдал жизнь…
За что они отдали жизнь, господа?..»
Так ведь сказано уже было: бесовский разгул. А до того: генетический беспредел. То и другое обнажается в картинах бескрайней свалки, где затерялся солженицынский каторжный лагерь. На курящейся испарениями свалке страшный цирк разыгрывает зловещие представления, и если главные фигуры видны всем, то менее заметные типы выводит на свет Игорь Шестков. Профессорский сын бестолковый Серёжа (рассказ «Вечная жизнь Зубова») вырастает в безвольное ущербное существо, для которого смысл и все радости жизни составляет поглощение чёрного кофе. Родители отправляют Зубова в ФРГ, где живут его дядя и двоюродные братья: «Там же тебе весь мир открыт». И что же?
«На Западе Зубову очень понравилось. Встретили его родственники отменно, показали ему город и окрестности, вывезли в Альпы, кормили на убой /…/ Намекнули, что он сможет пожить у них месяца два, а потом должен будет снять квартиру или переселиться в специальный лагерь…»
С неизменной виртуозностью Игорь Шестков замыкает частный, так сказать, случай на философский охват неразрешимого:
«Почему Зубов не остался в Германии? Ответить на этот вопрос легче, чем понять, почему Россия осталась азиатской страной, не пожелав сделаться сестрой европейских народов». — Взлёт к сокрытым сущностям в его неотразимом значении. Взгляд в глубины. И умение первоклассного художника — не впасть в пустословие, а завершить пируэт мягким приземлением: «Для того, чтобы остаться, нужно было бегать, стараться, рисковать. А Зубов в школьные годы боялся даже в туалет попроситься на уроке, терпел, терпел и однажды позорно обкакался».
То, что он побывал в Мюнхене, заинтересовало практичную Маринку Лямину, мечтающую о жизни на Западе. Характерно, что когда она спросила Зубова о поездке, этот «валенок и слюнтяй», как назвал его отец, выказывает себя подлинным патриотом:
«Был, был в колыбели фашизма… И вернулся в родное Зауралье…»
Выйдя замуж за Зубова, Маринка убеждается, что в ФРГ он не переедет, и изливает на него всю полноту презрения. Таким образом, производное «генетического беспредела» порождает картинку «бесовского разгула»: Маринка и её любовник «привязали Зубова к огромному старинному буфету, стоящему у стены напротив софы.
Затем любовники разделись и совокупились перед глазами Зубова. Потом встали, подошли к связанному и стали плевать в него и ругаться…»
Задумываясь о Зубове как о типе, не можешь отмахнуться от ассоциации с другим профессорским сыном, тоже слюнтяйски безвольным, который не осознаёт (или покорно принимает) позор той роли, для какой выбрал его Путин.
Они и похожи, и весьма разнообразны: все те, кто наверняка вздохнул с облегчением, когда Путин заново отстроил стену страха. Вздохнул или мог бы вздохнуть, коли бы дожил. Каждая из личностей, запечатлённых Игорем Шестковым, замечательна по-своему. Чем не пример — сотрудница престижного НИИ Гривнева (рассказ «Доносчица»)? Опытная стукачка, которую КГБ приставил к доктору физико-математических наук Лакшину, она предаётся с ним игре в «собачью свадьбу». Однако сладострастная забава не развязывает язык учёному, которому есть что скрывать. Он не желает жить в СССР. И совершает самоубийственный шаг: подаёт заявление на выезд.
Особенно сильна кульминация рассказа. Гривнева уведомляет Лакшина о том, что его обвинят в разглашении государственной тайны, после чего тот бросается из окна. Занявшись отчётом о похоронах, доносчица, на четвереньках игриво бегавшая, изображая собаку, от ныне покойного любовника, выводит бесподобное по тону: «Его смерть была спокойно воспринята в коллективе». Тут же она деловито переходит к главному: на гражданской панихиде выступил «отъявленный диссидент Бабицкий».
Устами этого персонажа Игорь Шестков заявляет об одной из своих программных установок: «Самый подлый и опасный миф, который вбивают нам в голову с детства, это миф о верховенстве государства /…/ каждый, кто внушает тебе, что не ты и не твой ребенок являются главными носителями бытия, а некая антропоморфная абстракция, — мерзавец».
Шестков не забывает и о принципе возмездия. «На сороковой день после смерти Лакшина Гривнева сломалась». Сошедшую с ума изнуряют кошмары — изнуряют почти тридцать лет, до самой смерти.
Возмездия заслуживают столь многие, что надежда на спасение страны не более реальна, чем птица Алконост, чьим именем назван великолепный рассказ, давший название всему сборнику. Герой рассказа слесарь Володя Ширяев кое-чем походит на Ивана Денисовича. У слесаря тоже умелые руки. И он вдохновенно занялся работой, за которую не ждёт платы. Для него желаема единственная награда — покончить с невыносимым злом внутри себя и вокруг. Покончить одним выстрелом.
Ширяев изготовил самопал. «Не торопясь работал. Без истерики».
Исследуя противоречивый характер, Шестков превосходно показал сущностное: непримиримость жертвы к поразившему её проклятию — столь естественному в стране, где развивается «цепная реакция распада». Непримиримость не позволяет обратиться в ничтожество. Потому герой Шесткова, подобно булгаковскому Мастеру, заслуживает Покоя. Страдающий с детства человек, становясь, словно в неком стихийном отклике на призыв Ницше, творцом собственной смерти, видит впереди, за пределом, не мрак, а чудесную птицу Алконост.
Самый утончённо-глубокий момент в рассказе: когда начальник Козодоев, сказав приятелю Ширяева, что тот застрелился в Тропаревском лесу, закидывает удочку: «Ты, Димыч, мне как старшему товарищу скажи, ты с Ширяевым никаких таких, особенных, дел не имел? Может, затевали что? Мне твоего слова достаточно, я людей знаю… Может, кого другого завалить хотели? Там Ленинский близко. Правительственная трасса…»
Димыч протестует, он и Ширяев о подобном не заикались. И тут чувствуешь то’, что подспудно привнесено дарованием Шесткова: сожаление! Необоримое сожаление — почему не хотели завалить?!!!
Однако же, дело сделают. Ибо, как сказал бы коллега Цезаря Марковича, можно снять прекрасную кинокартину о свержении тирана, но в жизни, если тиран — прежде всего, подлый убийца, всё искусство сведётся к тому, чтобы его завалить.
В эссе «Стена» Игорь Шестков написал «когда сдохнет Путин». Шестков несёт нам понимание того, что иначе не быть перерыву в смертях. Он говорит в своём «Вечере Литвиненко»: «Литвиненко — мертвый. И Политковская. И Щекочихин. И Старовойтова. И многие, многие другие. Все, кто хотел правду сказать. О путинской педофилии, о взрывах в Москве и рязанских учениях, о наворованных чекистами миллиардах, о Чечне, „Курске“, Нордосте и Беслане…»