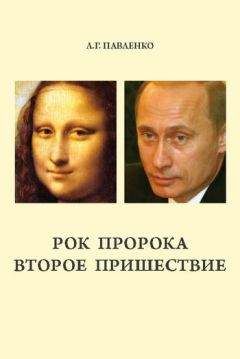Евгений Елизаров - Доктор Живаго. Размышления о прочитанном
В представлении доктора Живаго, человека, учившего историю иную, значительно отличающуюся от той, какая преподавалась нам (и экзамен по которой, слава Богу, отменен!), история — это в первую очередь непрерывный процесс нравственного и духовного совершенствования человека. Правда, философские воззрения доктора нигде в романе впрямую не приводятся, но косвенным путем они довольно легко восстановимы. Мощно, во весь голос на протяжении всего романа звучащая библейская тема способствует такому восстановлению.
Вспомним. Еще в Пятикнижии Моисея приводится первый развернутый свод законов и нравственных норм древних иудеев. Несущие на себе явственно различимый отпечаток родового уклада, эти законы носят довольно суровый, подчас просто жестокий и на взгляд современного человека не совсем справедливый характер. "Око за око, зуб за зуб" — это ведь тоже из Библии. Но мировой религией ветхозаветное исповедание не стало, да и не могло стать. Лишь с Новым заветом христианство становится всепобеждающей силой, перед которой склонялись владетельные князья и капитулировали короли, силой, и без меча завоевывающей целые народы. Каносса и крещение Руси стали возможны только и только благодаря новозаветным откровениям. Но Новый завет формулирует совершенно иной кодекс, который самым разительным образом отличается от ветхозаветного. "Вы слышали, что сказано: "око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду" (Матфей 5, 38 — 40). "Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего". А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. (Матфей, 5, 43 — 44).
Нагорная проповедь Христа не только для доктора Живаго — для поколений и поколений — это концентрат совершенно иной этики. Разница между этикой Левита и Второзакония и этикой Нового завета сопоставима разве только с пропастью. Проделан огромный путь, огромная, говоря словами Пастернака, работа. Но ведь Нагорная проповедь Христа — это событие почти девятнадцативековой (мы ведем отсчет от времени жизни героя) давности. И если уж за поколения и поколения, сменившие друг друга со времени Исхода (не будем забывать также и о том, что Юрий Андреевич получил естественно-научное образование, поэтому и счет поколений у него другой, не тот, что приводится в Библии), могла быть проделана работа такого масштаба, то и девятнадцать столетий, истекших со времени искупительной жертвы Христа, не могли пройти даром для человечества.
Но заметим и другое. Ведь Новый завет — это не свод уже утвердившихся в обществе новых этических норм. Нет, это еще не более чем противопоставление, проповедь нового учения, которому еще только предстоит завоевывать душу человека. Это именно новый завет: "вы слышали… — а Я говорю…". Это антитеза. Это своеобразная формулировка принципиально нового этического идеала, имя которому любовь. И не случайно Иммануил Кант и через восемнадцать веков отнесет практическое осуществление этого идеала в неопределенное будущее, в бесконечность. Но как бы то ни было, именно воплощение новозаветных норм должно было стать содержанием той "работы", которая велась на протяжении почти двух тысячелетий.
В том, что эта "работа" еще весьма далека от завершения, уже с первых страниц романа не оставляет никаких сомнений и Пастернак. Самоубийство отца Юры, совращение Лары, издевательства над безответным Юсупкой… — все это вещи далёкие от евангельских принципов. Но и за девятнадцать веков пройден огромный путь. Об этом со всей наглядностью свидетельствует уже судьба офицера Галиуллина. Сын простого дворника, выбившийся в офицеры, при встрече со своим бывшим мучителем, который теперь сам попал в полную зависимость от него, не только не воздаёт ему "оком за око", но бежит самой возможности случайного срыва ("любите врагов ваших… молитесь за обижающих вас и гонящих вас"). Больше того, в разгуле насилия именно он становится чуть ли не символом гуманизма. И это офицер белой(!) армии, принявший самое деятельное участие в гражданской войне.
Словом, работа и в самом деле проделана огромная.
Революция прерывает ее. "Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой (Матфей, 5, 23 — 24). Но вот: "…расстрел мятежников, детоубийство и женоубийство Палых, кровавую колошмятину и человекоубоину, которой не предвиделось конца. Изуверства белых и красных соперничали по жестокости попеременно возрастая одно в ответ на другое, точно их перемножали. От крови тошнило, она подступала к горлу, бросалась в голову, ею заплывали глаза…"
Нам, привыкшим за последние десятилетия к литературным стереотипам и штампам, может показаться необычным и даже диким то обстоятельство, что все гуманистические ценности доктор Живаго связывает не с новым, рождающимся в муках гражданской войны миром, но с миром старым, уходящим, вернее, сметаемым вихрем революции. Повторимся, последним гарантом этих стремительно разрушающихся ценностей в гибнущем от вакханалии насилия мире становится Галиуллин.
Фигура чрезвычайно важная для понимания идеологии романа, парадоксальным образом появляется на его страницах лишь эпизодически, большей частью вообще действуя "за кадром". Между тем он имеет все основания рассматриваться как один из центральных персонажей романа. Ведь Галиуллин — это своеобразное "эхо" самого Юрия Андреевича Живаго, отдающееся в той "колошмятине и человекоубоине", которая заполонила собой всю действительность, весь окружающий его мир. Постоянно пульсирующий на страницах романа персонаж предстает чем-то вроде проекции духовной составляющей доктора Живаго на материальную плоскость гражданской войны. Может быть, именно поэтому-то он большей частью вообще не "материализуется" — о его существовании мы узнаем только из "вторых", а то и из "третьих" рук, только по слухам. Впрочем, отзвуку, тени и не положено быть чем-то материальным.
Вглядимся пристальней в этот персонаж. Вплоть до марта 1917, то есть до Февральской революции, фигура Галиуллина, хотя и предстает не вполне обычной, но все же почти ничем не вступает в противоречие с реальностями того времени. Но дальше в ходе гражданской этот персонаж все отчетливей начинает приобретать все черты мифа. Вспомним, еще в марте он подпоручик, через три года, в двадцатом, он уже генерал. Стремительная карьера? Романтический ореол, окружающий этого человека, не позволяет предположить в нем карьериста; его выдвижение должно иметь в своей основе только высокие качества его личности. Но на одних только личных достоинствах выдвинуться столь стремительно если и не невозможно, то, по меньшей мере, чрезвычайно трудно: ведь все это происходит в армии, не испытывавшей недостатка в кадровых заслуженных и честолюбивых офицерах. А русские офицеры — это ведь не только герои Куприна. Андрей Болконский — тоже русский офицер. Русский офицер и тот смертельно раненный мальчик во главе атакующей колонны с картины Петрова-Водкина. В армии, имевшей и таких офицеров (а ведь и этот мальчик, и Андрей Болконский, скорее всего, оказались бы именно здесь, чего уж греха таить), уже сама возможность столь стремительного возвышения вчерашнего подпоручика делает эту фигуру легендарной. Если же учесть другие, более тонкие обстоятельства… К сожалению, не в традициях русской армии было давать и штаб-офицерские погоны сыновьям простых дворников, да к тому же еще и "инородцам". Так что судьба этого офицера в конце-концов становится чем-то столь необыкновенным, что вполне граничит с чудом: возможность такого персонажа хоть и не вступает в категорическое и ничем не примиримое противоречие с реальностями того времени, все же может быть объяснена только совершенно случайным стечением большого числа и в отдельности-то почти невероятных обстоятельств. Одним словом, не лишенная черт реальности в начале повествования, постепенно фигура Галиуллина превращается в миф. И наконец. Ведь в точности никому не известно, до каких чинов в действительности дослужился этот офицер. И стал ли он вообще генералом. Поэтому его генеральство — то ли действительное, то ли легендарное — это в сущности структурный элемент все того же мифа. Но именно миф и нужен Пастернаку: надежно констатируемая, полностью верифицируемая фигура вступила бы в противоречие с идейным замыслом романа.
В самом деле. Именно благодаря этой мифичности в конечном счете именно чудо, именно стечение случайностей, почти невероятностей становится последним гарантом стремительно разрушающихся ценностей старого мира.