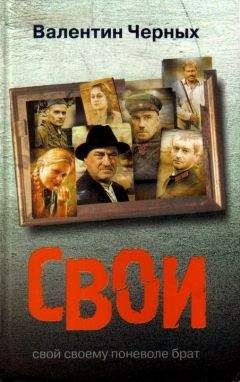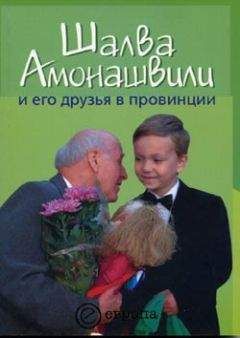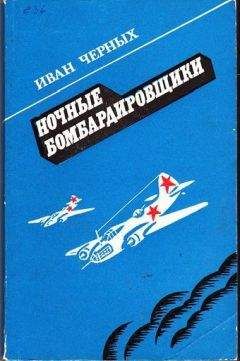Борис Черных - Старые колодцы
Чудной нам попался постоялец. Как и все офицеры, он много курил; у него была серая заношенная шинель – «ШЭКС», шинель экспедиционная; коньяк на ужин и иногда на обед. Но когда он нес льняную голову свою по провинциальному Свободному и серебряные погоны тлели на его прямых и сильных плечах, было в нем что-то похожее на Георгия Седова, когда тот замышлял дерзкое путешествие к Северному полюсу.
Владимир Михайлович Питухин попросился к нам на квартиру, когда я учился в пятом классе. С гарнизонными офицерами население восточных городов уживается хорошо и привычно. Офицеры обычно снимают маленькие флигели или комнаты и вскоре становятся почти своими в семье. И когда офицеров переводят в другое место – жизнь у них неоседлая,– то еще долго идут письма и всяческие поздравления, с днем рождения, с Рождеством и т д.
Так было и у нас. Во время войны в нашем городе была кавалерийская часть, на квартире у нас стояли тогда веселые и бесшабашные люди. Неподалеку была тогда база Амурской флотилии, город пестрел черными бушлатами и бескозырками.
Потом пришла пора исследователей, топографов и геологов. И в наш дом вошел Питухин. Девятая школа, где я коротал зимы в ожидании весенних костров, не много занимала у меня времени. Но пришел топограф Питухин, и время мое затрещало по швам. Питухин ввел жесткий распорядок дня; он обрабатывал результаты экспедиции, черкал что-то в толстой тетради в коленкоровом переплете, ходил молча часами. До поздней ночи в комнате горела самодельная настольная лампа. Я большей частью читал, но иногда получал от Питухина странные задачи на географической карте. Например. Экспедиция Н., вылетевшая самолетом, потеряла радиосвязь с землей на третьем часу полета. Место вылета – Новосибирск. Курс – строго на северо-восток. Определить широту и долготу квадрата предполагаемой катастрофы. Далее. Н. и двое уцелевших товарищей пошли на юг по компасу. Компас давал отклонение на одном градусе тридцать километров (компас оказался поврежденным при падении самолета). Средняя скорость движения группы – 10 км в сутки. Время движения – три месяца (компас уводил людей в тайгу, ненастная погода мешала хотя бы приблизительно вести отсчет по солнцу). Им пришлось зазимовать. Погиб еще один. Н. был в отчаянии. Но тут на них наткнулись аборигены-охотники. В каком это произошло квадрате, на какой восточной долготе и северной широте?
Вот это были задачи! Я и в топоотряд ходил смотреть на офицеров, обросших черными бородами, как на прообразы легендарного Н. Я стрелял на полигоне из стрелкового оружия не в фанерные мишени, а в медведей, в кабанов, в сохатых. Сладкий запах сгоревшего пороха туманил мне голову.
Вечерами в наших комнатах часто толпились офицеры. Приходил медленный и тяжелый Борейко[3] – так я звал его, а на самом деле Николай Михайлович Игнатьев; вбегал Леня Леонтьев, бедокур и непоседа; позднее появился Джага – так звали молодого лейтенанта Бориса Шампарова. Имя таежное «Джага» привязалось с легкой руки проводника в камчатской экспедиции, да и осталось. Говорили, полковник Никитин, начальник топографического отряда, так и звал его: «Лейтенант Джага».
Были и другие офицеры – теперь безымянные за давностью лет.
Джага в полевой сумке всегда имел запас коньяка. Он говорил, что это у него наследственная слабость. Леонтьеву приносили гитару, на кухне переставала стучать швейная машина «Зингер», к нам выходила мама. Мама любила казачьи песни, на которые Леонтьев был мастак.
Джага вздыхал, ему не повезло с проводником.
– Оказался угрюмым и жестоким. Знаете ли вы, что такое с пяти метров расстрелять в гнезде орлят? Они на крыло еще не стали, а он их в упор. Маяться пришлось весь маршрут.
«Угрюмый проводник», «маршрут», «увалы» – какой, в сущности, незатейливый язык, но сколько в нем притягательной силы для пятнадцатилетнего мальчишки в любую эпоху. Мне казалось, Пржевальский сойдет сейчас с портрета, присядет вместе с нами, пошебаршит усы и поддакнет Джаге.
Они все – Питухин, Игнатьев, Леонтьев, Джага – почти одновременно закончили Ленинградское топографическое училище, и много в их разговорах было примет города – Дворцовая площадь, Медный всадник, Нева... Они клялись, что вместе когда-нибудь соберутся и поедут на Иссык-Куль поклониться праху Пржевальского. Выполнили ли они свою клятву, не знаю, но в пленках топографа я неожиданно обнаружил три кадра: скромная могила Пржевальского, обнесенная железной оградой, памятник и уголок музея. Питухин читал стихи. Стихов он знал много (я не догадывался, что среди читаных были и его).
Запомнилось: «Мой старый фрак» Беранже и «К временщику» Кондратия Рылеева.
Питухин был потомственным помором. Как-то наш злополучный сосед, дядя Петрован, сильно ругался и назвал Геньку сволочью. Питухин усмехнулся:
– А ты знаешь, Годунов (такую кличку он дал мне), «сволочи» – это доброе слово. В Архангельской губернии мужики по суше ладьи свои волочили, и потому их звали сволочами.
Топографом он решил стать после армии, после фронта (на фронт он ушел добровольцем семнадцати лет, в сорок третьем). Ему повезло – не только потому, что училище было на Петроградской, но и потому, что еще был жив Берг. Питухин напросился на встречу к старику.
У Берга была большая и пустынная квартира – видимо, следствие блокадных лет, и Берг любил поговорить с будущими географами.
Лев Семенович Берг оставался живой легендой, наследником потрясающих успехов русской географической науки в XIX веке.
Окончив Московский университет с дипломом первой степени в 1898 году, он был практиком – зоологом, натуралистом и путешественником, а потом, когда здоровье не позволило кочевать, стал теоретиком и историком.
Еще в 1908 году за классическую монографию «Аральское море» он был удостоен Географическим обществом Золотой медали имени Петра Семенова-Тян-Шанского.
Берг садился в кресло напротив Питухина и говорил:
– Ну-с, продолжайте ваш рассказ. В прошлый раз я, к сожалению, не смог дослушать...– Берг был непоправимо ранен временем, ему шел восьмой десяток.
Курсант Питухин описывал Бергу природу Архангельского края, обычаи поморов, рассказывал о фронте.
Вскоре Берг умер. Питухин не смог принести цветы на его могилу, потому что началась страда экспедиций: чукотская, зейская, камчатская.
Все экспедиции, наверное, начинаются одинаково. Позднее мне приходилось участвовать в геологической и археологической партиях. У топографов начало было похожим. Много праздничной суеты, хлопот. Тусклые полевые погоны вдруг преображают офицеров; у них исчезает подпрыгивающая походка, потому что на ногах уже не сапоги, а мягкие ичиги. Плац в топоотряде пустеет. Озабоченные солдаты увязывают вещмешки, упаковывают продовольствие, чистят лошадей, лоснящихся нагулянным за зиму жиром. И в канун отправления отряда целая часть города, словно старинный посад перед уходом воинов, дымит кухнями, гремит ведрами у колодезных рам – готовит проводы, потому что уходят свои, кровные, родные, уходят на лишения; но как уходят – с гиком, в горьковатой веселости. И «Прощание славянки» на последнем построении медными трубами разрывает сердца горожан, и город как будто немеет.
Питухин уходил из города кротким и тихим. Однажды я подсмотрел в его дневнике: «Уходить из Свободного тяжело, будто из родимого дома. А в городе все так же будет дымить хлебозавод, разнося вокруг теплые запахи опары. Но идти надо – снова и снова, чтобы не зарастала тропа, проложенная не нами; увы, мы идем по проторенным тропам, но и то честь: идти вторым». Питухин осознавал себя наследником Роборовского, Потанина, Берга, но не декларировал этого. Он был так же одержим в поиске, он был так же неутомим в походах, хотя фронтовые ранения и профессиональные болезни все серьезнее осложняли его бытие. Он воспитывал свой интеллект, постигал культуру за домашним столом, и любимым изречением у него было: «После хлеба образование является первой необходимостью человека». Он знал, конечно, что офицеры – участники знаменитых и незнаменитых экспедиций в дебри Центральной Азии или в Полесье – воспитывались на Плутархе, Шекспире, Гёте. Они частенько не догадывались о противоречиях, раздиравших уклад Российской империи. Но, прозревая для себя в 14 декабря гибельный пример, они уходили – не убегали ли? – в дальние пределы и страны. Строки поэта как нельзя лучше передавали их немудрящую философию и жизненный идеал:
Домик с зелеными ставнями,
Снова согрей и прими.
Грежу забытыми, давними,
Близкими сердцу людьми.
Но каким исполином рядом с этими прекрасными, но камерными строками жил стих, громкоголосо читанный Питухиным тогда, в дальнем пятьдесят втором году:
– Сволочи! – Я бросаю слово в грязную одиночку, И ненависть лавой в груди моей клокочет, – стих о Греции. В Греции было тогда плохо. Казарменный режим душил мысль, поэзию, науку. И в запредельной России неведомый лейтенант читал этот стих, ненавидя тиранию, как ненавидит ее афинянин. Но за Грецией – вставала Россия, уставшая в безмолвии мертвых зон от Камчатки до Балтики. И доброе поморское слово «сволочи» в устах лейтенанта Питухина вдруг становилось острым.