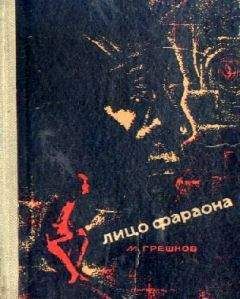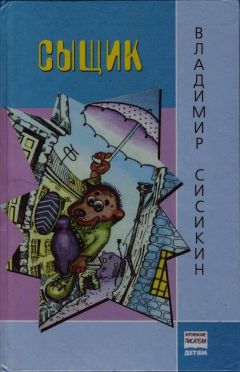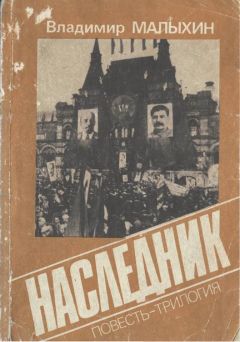Б Ванеев - Очерк жизни и идей Л П Карсавина
Однако - в чем именно эвристическое значение догмы и каким образом догма, понимаемая обычно в значении священных формул или даже оградительных определений против рациональных ересей, может заново наполнить собою живую мысль, чтобы дать ей силу справиться с проблемами современной религиозности?
Ответ на этот вопрос связан прежде всего с определенным отношением к истории. Христианская культура развивалась в сторону высвобождения секуляризованного гуманизма. Последний сам своими силами стремился выйти из-под опеки религии, и этот факт, более чем очевидный, заслоняет собой другой факт, что внутри религии идут процессы, внешним образом противодействующие, а в конечном счете - способствующие рождению гуманизма. Можно говорить о прогрессе, движимом материальными силами, но суть дела одна: христианство рождает гуманистическую и, наконец, современную атеистическую культуру, чего, вообще говоря, не наблюдается в других религиях. Секуляризации мысли в форме науки и философии и секуляризации этики в форме социологических учений внутри религии соответствует развитие консервативных сил и охранительных начал, консервирующих традицию и приостанавливающих догматическую мысль, достаточно свободную до конца средних веков, а затем все более тяготеющую к сравнительно неподвижной доктрине или даже к неприкосновенной формуле. Распространенному в наше время представлению, будто бы это и есть существенная черта христианства, следует указaть на то, что на самом деле это - динамический момент христианской истории, "предродовое" состояние христианства на пороге рождения атеизма или - предатеистическое состояние христианства, длящееся и поныне, особенно на Западе. Вместе с тем, тому факту, что массовая атеистическая культура уже родилась и имеет в мире прочное самостоятельное существование, внутри христианской религии должен соответствовать выход из "предродовой" скованности и возобновление того, что исторически подверглось погашению. Заданием христианства в современном мире является реализация своих резервов или, лучше, возобновление и возрождение тех действенных начал, которые несут в себе всю мощь христианской идеи. Отсюда - религиозный интерес к догматической мысли.
Христианство не только не должно поступаться своей разумностью, но, напротив, должно вернуться к тому, что, собственно, было ясно всегда: оно одно и есть единственно разумное, так как именно христианскому миру "возсия Свет Разума", который лишь преемственно унаследован секуляризованной гуманистической мыслью.
В постановке проблемы об отношении веры и разума последний ни в коей мере не должен быть взят в противопоставлении первой. Разум может быть противопоставлен чувству, но не вере, по отношению к которой он является ее собственным моментом. Вера целостно охватывает человека, верит весь человек, так как он предстоит Богу всей своей личностью, а не какой-либо ее частью. Вера равным образом актуализует себя и в чувстве, и в разуме. Настроения религиозного адогматизма есть лишь выражение односторонней актуализации веры, а потому и ее собственная недостаточность, так как она при этом не реализует себя в той полноте, которая ей доступна. Наша чувствительность к таинству веры должна воспитать себя настолько, чтобы видеть момент таинства в акте мысли вообще и в акте религиозной мысли в особенности.
Выражая отношение к Богу, Который есть источник всякой действительности, вера сама активно развернута на действительность, и потому осмысление содержания веры теснейшим образом соотнесено с действительностью, отображая ее, но и некоторым определяющим образом воздействуя на нее. Принятая на веру идея воспитывает нас, воспитывая наши чувства, восприятие мира и самый образ мысли. Догматическая активность мысли не есть, как думают, отвлеченная и оторванная от жизни изощренность ума, но действенно входит в нашу жизнь и потому ответственна за то, как мы организуем жизнь. "В религии, - пишет Л. П. Карсавин, - деятельность не отделима от познания, в ней все до последней йоты жизненно и каждой догматической ошибке, какою бы ничтожною она ни казалась, соответствует моральный грех" ("Восток, Запад и Русская идея").
Очевидная для всякой религии онтологическая действительность отношения человека и Бога в христианстве осознается как эмпирическая действительность нашего отношения к Иисусу Христу. Для христианства Абсолютное существует в эмпирическом и как эмпирическое, поэтому вера в Богосыновство Христа и в Его Воскресение необходимо раскрывается как вера в продолжающееся пребывание Христа в Церкви и в ее Таинствах. Если Христос положил основание нашего спасения, то продолжается Его дело и заканчивается - в нас. Такое понимание содержит религиозное оправдание человеческой истории и возможность ее наиболее полного осмысления. Но именно в этом - живой нерв христианства. Мысль есть нечто религиозно-избыточное (казалось бы, довольно культа и этики), но где нет избытка, там нет и действительной полноты. Законченность обязательно предполагает осознанность, последняя же дается в догматическом сознании и в догматической мысли.
Единый в Троице
Учение о Боге, Едином в Троице, представляет собой ключевое умозрение христианской мысли. В нем мысль достигает своего последнего предела, где в принципе содержится решение проблемы об отношении познания и бытия, которая лишь частично и односторонне раскрыта позднейшей философией. "Когда пришло время выяснить абсолютные начала бытия и знания, - пишет Карсавин, - то решили искать их вне христианской догматики. Декарт даже и не подозревал, что его cogito ergo sum представляет собой субъективизированное и ухудшенное изложение христианско-платонических идей, и даже великий ум Гегеля приблизился к христианской догме лишь сквозь заросли нехристианских построений" (ПЕРI АРХОN). Однако суть дела не только в теоретическом значении догмы, но в ее жизненной и религиозной силе. Стремясь показать это, Л. П. Карсавин неоднократно обращается к вопросу о Триединстве Божества.
Речь идет не об учительных разъяснениях, а о том, что "христианизация" мысли и воспитание в ней религиозного качества требует, чтобы она заново в себе самой открыла понятие о тройственном единстве, через которое ей только и доступно познание абсолютного.
Первоначально (в "Noctes") Карсавин, следуя тринитарной идее бл. Августина, усматривает тройственность в Любви. Чтобы любить, нужны двое, но полноты своей любовь достигает лишь тогда, когда есть третий. Однако при подходе со стороны бытия, отчетливо выявляющем необходимость двух, необходимость третьего остается неубедительной. Позднее Карсавин приходит к окончательному представлению, что троичная определенность абсолютного единства обоснована со стороны познания (см. "ПЕРI АРХОN"). Суть дела в том, чтобы от понятия Непостижимости (или Единства) в его мыслимой логической определенности перейти к осознанию Непостижимости в полноте ее действительности.
Бог противостоит нам как безусловно и непререкаемо Непостижимый, как трансцендентная внемирная Святость. Мы знаем, что ничего знать о Нем не можем. В этом пафос апофатического богословия и в этом же - основное противоречие веры. В силу нашей внебожественной и безбожественной природы мы сами из себя вообще ничего знать о Боге не можем, ни того, что Он есть, ни того, что Его нет, ни того, что Он - непостижим. И если знаем - значит, Он Сам открывает нам Себя. Но тогда противоречие веры ("не можем знать, но знаем") содержит или отображает не то, что присуще вере, а то, что присуще Богу, именно, совершенно непостижимый, Он, вместе с тем, совершенно открыт нам, так как, открывая Себя, по божеству Своему делает это совершенно, не отчасти, а вполне. Этим центр непостижимости как бы сдвинут, самое непостижимое это то, что Бог нам открыт.
Воспринимаем мы Откровение, может быть, и не полно, но Бог открывает Себя принципиально со всей полнотой, если это не допустить, мы накладываем на Бога ограничение, обнаруживая несвойственное нам сверхведение о том, что Бог не может или не хочет. С другой стороны, понимание непостижимости в прямом значении слова, т. е. как такой, о которой просто нечего говорить, означало бы не то, что Бог не подлежит нашему определению, а то, что мы делаем Его подлежащим нашему отрицательному определению. Апофатическое богословие без катафатического прямиком ведет к богоотрицанию.
Бог подлинно непостижим именно в том, что открыт нам, и не как-то иносказательно или абстрактно, а - прямо, эмпирически, прежде всего - в Иисусе Христе. Но и о Богосыновстве Христа нам по той же причине ничего знать невозможно, если же верим и знаем, это может означать только одно: Сам Бог из нас сознает Христа Самим Собой, Богом Сыном. Всем этим об одном и том же Боге сказано: Бог исходно непостижим и, открывая Себя, остается непостижимым, Бог открыт нам и явлен в мире, Бог из нас, т. е. из-вне Себя сознает Себя. Непостижимость Бога открывается нам как Его Триединство.