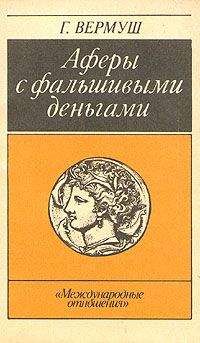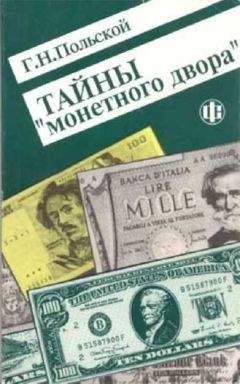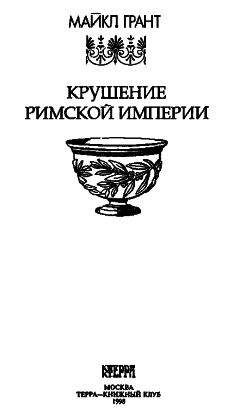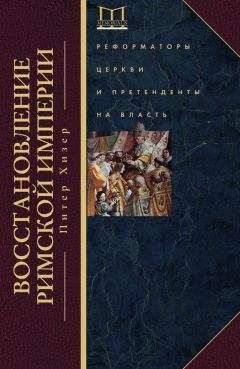Михаил Крепс - О поэзии Иосифа Бродского
В третьей строфе и происходит такой в высшей степени непредсказуемый поворот темы:
Он корни запустил в свои
же листья, адово исчадье,
храм на крови.
Не воскресение, но и
не непорочное зачатье,
не плод любви.
С одной стороны, это поворот как бы в уже знакомую тему возрождения, но она тут же отрицается --- действительно, та часть куста, которая умирает, -умирает навсегда, а та часть куста, о которой идет речь, и не умирала никогда. То, что казалось простым Анненскому, не удовлетворяет Бродского. Идет он и дальше Джорджа Герберта. У последнего, как мы помним, цветы опадают, чтобы пережить с матерью-корнями суровую зиму, а дальше что с ними происходит? Герберт избегает ответа на этот вопрос, переключая тему стихотворения на лирического героя.
Бродский же рисует зловещую картину пожирания корнями своих листьев, поворот, приведший бы Герберта к идее педофагии при последовательном развитии его метафоры. Таким образом, Бродский разрушает идею простого воскресения как красивую иллюзию. Шиповник из божественного миропорядка (вместе с примитивно понятой идеей воскресения) устраняется, становясь "адовым исчадьем", и "храмом на крови" -- выражение, которое следует понимать буквально, то есть не "спаса на крови", а на крови построенного. Такое возникновение новой жизни не сообразуется ни с какими известными человечеству способами (гипотезами) -- ни с языческим воскрешением, ни с христианским непорочным зачатием, ни с зачатием "порочным". Перенос с первой строки на вторую и тут играет семантическую роль, передавая одновременно резкость и жестокость акта: "в свои /же листья", и взлет интонации неприятного удивления.
В следующих двух строфах нарастает семантика агрессивности шиповника. Оказывается, что он обладает каким-то военным рангом, метафора "мундир" переводит его из разряда суетливого шпака в разряд воина, а следующая строфа снабжает его оружием-иглой, с которой он бесстрашно идет против орудия ограды -- копья чугунного. Однако агрессивность шиповника имеет в основе своей не нападение, но самозащиту, вернее, борьбу за выживание в этом "недостоверном" мире, ведь все усилия шиповника диктуются стремлением предохранить будущую зелень и бутоны.
Ироническая струя, однако, продолжает действовать и даже усиливается, так как солдат-то он все-таки "бумажный" -- ему не совладать с оградой, которая является воплощением грубой и слепой (в исконном значении) силой, так как она, будучи неживой природой, индифферентна к миру сама по себе и должна бы восприниматься здравым смыслом как нечто непреодолимое, с чем бороться абсолютно бесполезно. Ирония завершается концовкой предпоследней строфы, которая продолжает оставленную на время линию второй, -- стремление шиповника найти хоть какой-нибудь "источник зла" -- козла отпущения, мертвую природу за неимением живой: "другой /апрель не дал ему добычи /и март не дал".
В целом у читателя остается двойственное впечатление от усилий шиповника: здравый смысл иронизирует над бесполезностью этой борьбы, живое же чувство восхищается ее отвагой. Эта двойственность создается отчасти и глаголами действия, пронизывающими каждую строфу: "пытается припомнить", "суетится", "корни запустил", "проверяет мир", "мечется в ограде", которые отражают как целенаправленные, так и хаотические действия (состояние аффекта).
Однако, хотя читатель частично и идентифицирует себя с шиповником, смотря на мир его глазами, иронизирование над его действиями все-таки оставляет заметное расстояние между ними, выражающееся в некоторой затекстной насмешке над действиями куста. Здесь позиция читателя совпадает с авторской (вернее, автор-то и настроил читателя на подобный лад), поэтому законным кажется и опровержение такого отстранения13 в начале последней строфы ("И все ж" -- то есть вопреки поверхностному впечатлению), где отстранение замещается сопереживанием:
И все ж умение куста
свой прах преобразить в горнило,
загнать в нутро
способно разомкнуть уста
любые. Отыскать чернила.
И взять перо.
Негативная оценка "адово исчадье, храм на крови" эаменяется в конце стихотворения апофеозом умению куста "свой прах преобразить в горнило". Само это слово, означающее печь для переплавки, знаменует сложнейшие процессы, происходящие с прахом в "нутре" куста, механически и метемпсихически куда нее сложные, чем упрощенно (в силу слабости человеческого ума) представляемые воскресение или непорочное зачатие.
Конец стихотворения является неожиданно и оригинально. Исчерпав саму тему, Бродский уклоняется от проведения параллелей между судьбами человека и растения (как, скажем, у Герберта и Ходасевича), считая ее само собой разумеющейся, а следовательно, -- лишней. Со стороны Бродского это одновременно и высокая требовательность к себе как к поэту, и щедрость к читателю, которого поэт не считает за профана, нуждающегося в разжевывании очевидного. Вместо этого точка зрения шиповника отметается, поэт говорит от себя впрямую, о своем впечатлении, которое заставляет его "Отыскать чернила. /И взять перо." Стихотворение заканчивается, чем оно началось -- пустой бумагой и поэтическим вдохновением, еще не материализовавшимся, ведь взять перо -- это не значит написать. Читатель отправляется к началу. Так кольцевая структура стихотворения обнаруживается там, где ее нет.
Открытый конец стихотворения в смысле неразжевывания параллелей предоставляет читателю большую свободу в восприятии текста на метафорическом уровне: деятельность шиповника может восприниматься не только как оная человека, но и шире (не у'же!) -- поэта, при мысленном развитии читателем возможного подразумеваемого сравнения: Так и поэт...
Действительно, поэт, как и шиповник, есть "храм на крови", переплавляющий "свои же листья" ради собственного же возрождения. При этом сама "истинность" или "ложность" такого толкования, с точки зрения его присутствия в сознательном творческом акте, для читателя абсолютно несущественна, коль скоро текст позволяет понять себя и в таком ключе. Выпуская живой организм стихотворения из клетки на волю, поэт уже не несет ответственности за его бытие во времени, то есть не знает заранее, что с ним случится в будущем и какие дополнительные смыслы ему удастся нарастить, видоизменить, а порой и утратить. Читатель, будучи в какой-то мере соавтором, привносит что-то свое, новое; дополнительные смыслы возникают в результате эффекта столкновения читательского восприятия с текстом -процесс активный, по сравнению с пассивным чтением просто. Органическая способность одного и того же текста иметь несколько толкований в зависимости от читателя, века, национальной культуры и т.п. и обеспечивает ему жизнь во времени и свободное безвизное передвижение в пространстве.
Таким образом, стихотворение -- форма борьбы поэта со временем, из которой он должен выйти победителем. Успех этой борьбы зависит частично и от последующего творчества -- в каждым стихотворением поэт расширяет сферу своего видения, при этом происходит эффект обратной связи -- новые стихотворения бросают свет на старые, видоизменяют и дополняют их, влая невозможные ранее толкования возможными. Так поэт может улучшить свои старые стихи, ничего в них не меняя.
Возвращаясь к юношескому "Все чуждо в доме...", о котором речь была выше, читатель может не согласиться с данным толкованием и выдвинуть другое, если он поймет в нем слово "умер" метафорически -- т.е. духовно умер. Тогда это будет стихотворение об одном и том же лице, возвращающемся в свой старый дом, ставший для него чуждым после долгой разлуки (война?, тюрьма?). Таким образом, обязательных толкований нет и быть не может, вариативность понимания -- компромисс активного читательского восприятия с поддаваемостью художественного текста. Разумеется, эта поддаваемость имеет свои границы, обусловленные семантической структурой текста, не позволяющие разгулявшемуся в своем воображении читателю вырваться "за".
Анализируя стихотворение "Шиповник", мы забыли сказать о самом главном элементе, который его двигает -- ритме. Ритм -- пульс стиха, и новаторство Бродского в этой сфере поразительно. В конечном счете ритм, как ни странно, формирует как стих, так и самого поэта. Мне не хочется вдаваться здесь в технические проблемы метрики, подсчитывать ударения, анакрузы, паузы и клаузулы и рисовать графики, которые все равно не смогут передать живую интонацию. Ведь даже написанные одним размером стихи бывают настолько разными, что общность их обнаруживается только при расставлении ударений для определения размера. Иные же как бы становятся принадлежностью данного одного поэта, так как он сумел создать непревзойденный поэтический контекст, пользуясь им. В силу этого стихотворение, написанное размером мандельштамовского "Ленинграда": "Петербург! я еще не хочу умирать: /У тебя телефонов моих номера.",14 будет звучать мандельштампом, разумеется, до тех пор, пока не будут созданы другие равноценные стихотворения и размер станет нейтральным (что случилось с ямбом во многих его видах). К слову сказать, размер "Ленинграда" существовал и раньше, но все же он мандельштамовский именно из-за "Ленинграда".15 Метрическое, ритмическое и интонационное изобретательство Бродского настолько высоко и при всей своей новизне настолько органично, что в этой области некого поставить с ним рядом в русской литературе. Каждое стихотворение имеет у него свое неповторимое лицо во всех идиосинкразических чертах его мимики.