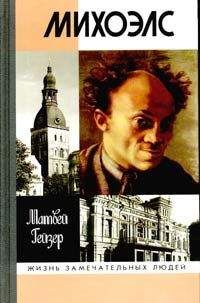Наталия Вовси — Михоэлс - Мой отец Соломон Михоэлс (Воспоминания о жизни и смерти)
Дед с семьей переехал в Либаву, где ему предложили место казенного раввина. Там же, в Либаве родились девочки — близнецы — моя мать Сарра и ее сестра Эльза, которую дома называли Элей. Когда девочки немного подросли, вся семья перебралась в Ригу. Бабушка умерла рано, и вся семья — брат и две крошки — остались на попечении старшей дочери деда — Маши.
Там, в доме Кантора, папа познакомился с моей матерью. Я представляю себе, как его очаровала необыкновенная мамина красота и насколько привлекательным для него оказался и сам дом деда, где царила атмосфера свободы и глубокой еврейской духовности, которой ему так недоставало в доме своих родителей.
Двери дома всегда были гостеприимно раскрыты, на столе шумел неизменный самовар, а вокруг стола располагалась молодежь, горячо обсуждавшая бурные события того времени, будь то дело Дрейфуса или Кишиневский погром; революция пятого года или статьи Льва Толстого; выступления Жаботинского или Герцля.
Там же, в доме деда устраивались литературные вечера, на которых многие, в том числе и Шломо Вовси, читали стихи Бялика, Фруга, Апухтина, Надсона и других поэтов.
Друзья отца вспоминали, что на этих вечерах он имел непревзойденный успех, и все советовали ему поступить на сцену. Однако, он пока не решался.
Когда, спустя почти двадцать лет, критики, журналисты, театроведы и шекспироведы одолевали Михоэлса просьбами изложить в обстоятельной статье его концепцию и процесс работы над» Королем Лиром» — дело было вскоре после премьеры — Михоэлс долгое время противился, но, наконец, сдался и в тридцать шестом году была напечатана статья под названием» Моя работа над» Королем Лиром» Шекспира.
Увы, более подробной автобиографической справки нет во всем его архиве. Он не любил возвращаться к прошлому, не имел терпения записывать предстоящие выступления, не имел времени вспоминать. Поэтому, многое я сама впервые узнала только из этой статьи. Вот как он описывает свои первые попытки стать актером:«… Эти мечтания я прятал глубоко — я считал, что не обладаю достаточными способностями, чтобы посвятить себя актерской деятельности. Кроме того, мои родители отнеслись бы к подобному решению отрицательно: в среде, к которой принадлежала моя семья профессия актера считалась зазорной. Если в столице небольшая часть актеров проникала иногда в другие слои общества, то в провинции, и особенно в еврейской среде к ним относились отрицательно и нигде не принимали. Это заставляло меня скрывать свои мечты, тем более, что я был уверен, что ничего реального из них не выйдет. Я начал серьезно готовиться к совершенно другой профессии — меня тогда очень интересовала адвокатура. Я воображал себя адвокатом, с героическими усилиями защищающим какого‑то человека и добивающегося его освобождения из‑под стражи. Именно, готовясь к карьере юриста, я решил заняться дикцией, так как в то время плохо владел русской речью. По наивности своей я полагал, что быть юристом — это прежде всего значит быть блестящим оратором.
Был у меня в то время один друг, который мне духовно протежировал. Это был Нимцович — отец знаменитого шахматиста. Сам он тоже был прекрасным шахматистом и поэтом, хотя и занимался лесным промыслом. Ему было шестьдесят лет, а мне семнадцать, но мы прекрасно понимали друг друга.
Моя юридическая карьера его столь же интересовала, сколько меня — лесное дело. Но зато он с особым вниманием относился к моим мечтам стать актером, а я — к его поэтическому дарованию.
Нимцович посоветовал мне брать уроки актерского мастерства и свел меня с актером Велижевым, который, впоследствии, некоторое время работал с Мейерхольдом. Велижев много мне дал в смысле дикции и постановки голоса, но заявил, что актера из меня не выйдет, так как у меня нет для этого достаточных данных.
«Какой из Вас актер при Вашем росте?». С этим приговором я примирился, и профессия актера была тогда для меня только грезой».
Весной пятнадцатого года скончался мой дед И. — Л. Кантор, и осенью этого же года отец с мамой и ее сестрой Эльзой переехали в Петербург. Отец поступил на юридический факультет Петербургского университета. Окончание учебы выпало уже на послереволюционное время. Идеи о гуманных задачах адвоката испарились с появлением ревтрибуналов, слухи о которых просачивались в студенческую среду и холодили кровь. Отец стал подумывать о переходе на математический факультет, где проблемы» гуманизма» не стояли с такой остротой, а способностью к математике он обладал исключительной.
Но тут произошло то, что не могло не произойти.
НАЧАЛО
В голодном и заснеженном Петрограде восемнадцатого года, молодой режиссер — ученик Макса Ренгардта — Алексей Грановский задумал создать еврейскую театральную студию.
Идея была новая и весьма оригинальная — никогда прежде еврейский театр не имел школы.
На призыв откликнулись и любители, и профессиональные актеры. Однако, профессиональных актеров Грановский решил не брать. Несмотря на то, что среди них несомненно попадались самобытные таланты, украшавшие яркими звездами небосклоны еврейских местечек, однако, убогий репертуар, полное отсутствие культуры и заштампованное амплуа, помешали бы Грановскому создать тот новый театр, о котором он мечтал.
Надо сказать, что А. Грановский, человек европейской культуры и воспитания, о еврейской культуре и литературе имел довольно смутное представление. Поэтому, я затрудняюсь сказать, что именно послужило толчком к идее создания еврейской студии. Но абстрактная, поначалу, идея, постепенно стала обретать конкретные формы.
К этому времени Шломо Вовси, выпускник юридического факультета готовился к дипломной работе и подрабатывал преподаванием математики на высших женских курсах.
Проходя как‑то дождливым осенним днем по Невскому, он вдруг услышал, что кто‑то его окликнул. Это оказался знакомый по одному из драматических кружков, каких было много в те годы. Они поболтали немножко и, между прочим, приятель рассказал о наборе в еврейскую театральную студию. После этой встречи папа провел бессонную ночь, терзаясь сомнениями. Может ли он позволить себе снова сесть за Школьную скамью — ведь ему уже двадцать восемь лет, у него семья, еще немного, и он закончит университет и приобретет профессию, которой не постыдился бы и отец — лесопромышленник…
А наутро он пошел по указанному адресу и в тот же день стал учеником Первой еврейской театральной студии.
В отличие от своего руководителя А. Грановского, Шлема Вовси был весь насквозь пропитан духом и культурой своего народа, и он стал знакомить Грановского с ее традициями, литературой и драматургией.
Экспериментальный период, с которого начинала свою работу студия, закончился в двадцатом году. В то же самое время в Москве также возникла театральная студия, которой не хватало сильного руководителя. Когда до Москвы стали доходить слухи об интересных экспериментах режиссера Грановского, в Петроград направился Абрам Маркович Эфрос, один из руководителей Московской студии, человек необыкновенной эрудиции, крупнейший литературовед, переводчик и искусствовед. Вот как он вспоминает о своей первой встрече с Грановским и папой.
«Почему же это еврейский театр?— спросил я Грановского. — Но ведь мы играем на еврейском языке! — ответил мне он. — А в Москве думают этого мало? — Да, — ответил я, — мы представляем себе все иначе… — Вот как! — воскликнул Грановский и, поколебавшись, добавил: — Мне хочется познакомить вас с моим премьером… Он — настоящий, правда, со мной он играет в» послушание», но иногда отваживается противоречить мне и тогда кротким голосом говорит такие вещи, которые меня бесят. Теперь я вижу, что они в чем‑то перекликаются с московскими… Позовите Вовси! — крикнул он в дверь и, обратившись ко мне, добавил: — Это его фамилия. Для сцены он выбрал себе псевдоним Михозлс по отцу».
В комнату вошел не первой молодости человек, видимо около тридцати лет — низкорослый, худощавый, на редкость некрасивый, с отвисающей губой и приплюснутым, хотя и с горбинкой, носом, с редеющими уже волосами на высоком лбу и торчащими на висках вихрами, с живым, но точно бы искусственно погашенным взглядом. На его повадках лежала печать нарочитой сдержанности.
—Вы меня звали, Алексей Михайлович… — сказал он в самом деле кротким голосом.
—Вот хочу тебя представить московскому гостю… Поговори с ним, изложи свою точку зрения на еврейский театр.
—У меня нет своей точки зрения, — негромко и чуть-чуть упрямо ответил Михоэлс. — У нас есть ваша точка зрения.
Грановский засмеялся:
—Смотри, Соломон, вот мы решим что‑нибудь и придется тебе выполнять.
У Михозлса вдруг дрогнули усмешкой уголки губ и с невыразимым очарованием юмора и теплоты он произнес стереотипное: