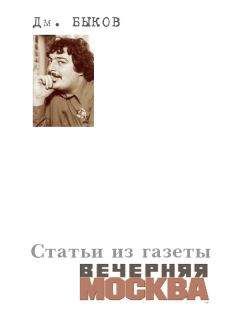Леонид Леонов - Статьи военных лет
Гаху вводят в кабинет рейхсфюрера. Всё троится в глазах старика. Гитлер, стоя, барабанит пальцами в стол. Позади него, чуть в тени, Риббентроп, Кейтель и ещё какой-то тучный, трёхголовый господин в фельдмаршальском мундире: понятые! Время дорого, и это не обычный дипломатический демарш, а разговор с пристрастием, сопровождённый серией иронических усмешек, гипнотических взоров и зубовного скрежетания.
— Я знаю, вы стары, — сухо начинает фюрер вместо извинения за потревоженный покой старца. — Но наша беседа может принести пользу вашей стране. Я благодарен мистеру Чемберлену (за Судеты!), но я не могу отступать за границы моего терпения. Лондон и Париж не интересуются Чехией в данный момент. Я не тронул бы вас, но я вынужден защищать Германию. У вас чрезмерная армия, являющаяся бременем для государства. Видимо, у Чехии имеются внешние интересы?
Его голос усиливается до зловещего визга, дребезжит абажур на столе, и сам Геринг дивится этому леденящему голосу: бывает же такой адский дар у людей!
— Я прошу у вас терпения, ваше превосходительство, — шепчет Гаха, топчась на месте.
— Я жестоким образом уничтожу ваше государство, если не будут пересмотрены тенденции Бенеша. У вас считанное время. Сейчас два десять ночи. В шесть пятнадцать мои войска войдут в вас со всех сторон. Против каждого чешского батальона стоит немецкая дивизия. Я решил окончательно. Уйдите и обсудите.
Гитлер и его последователи обожали помахать револьвером на виду у жертвы, но этому старику за глаза хватило бы и полпорции такого страха. Ему дурно. Хвалковский вытаскивает бесчувственного шефа в соседнюю комнату, где врач в эсэсовской форме корректно вкладывает ему в рот горькую облатку от дрожания колен. Ах, какая глухая средневековая ночь стояла тогда в срединной Европе!
Старца вводят обратно.
— Я понимаю бесполезность сопротивления, но сомневаюсь, что успею отдать приказ о разоружении армии, — лепечет он, облизывая горькие губы.
Ему вставляют в руку перо, и тот же трёхголовый господин придвигает огромный лист бумаги, который останется в истории актом величайшего всестороннего предательства.
«Президент Чехословацкой республики с полным доверием вручает судьбу чешского народа и чешского государства в руки фюрера и рейхсканцлера Германской империи».
— Ну, подписывайте — и бай-бай, — сердясь, шепчет Геринг. — Иначе пол-Праги будет обращено в руины за два часа. Остальное я доделаю после. Ну же, ничего страшного: вы войдёте в состав райха, и фюрер дарует вам новые формы существования.
И Гаха, которому история в обмен на его уже выпитую жизнь предлагала бессмертие, исполняет приказ, хотя известно, какие формы существования приобретает через два часа тот, кто вступает в желудок людоеда. Семидесятидвухлетний кролик, кряхтя и в полном президентском облачении, лезет в пасть удава; господин Хвалковский, придерживая сзади за каблуки, пропихивает его превосходительство в вонючую могилу бесчестия. Пасть сомкнулась, сеанс животного магнетизма окончен. Через час выйдет приказ фюрера. — Чехословакия прекратила существование.
Это была очередная подлая немецкая ложь для возбуждения штурмовой ярости верноподданных… Прекрасная страна кротких тружениц и строгих героев, лежащая в голубой горной чаще, полная тихих прозрачных долин, где плывёт, как музыка, славянская речь, страна-Китеж, Чехословакия, которую издали ровной и бескорыстной любовью дарит мой народ, не погибнет никогда. Она выжила и раньше, когда тевтонская волна бушевала вокруг наивных вагенбургов Яна Жишки, она тем более выживет и впредь, зная, в какой части Европы проживают её честные, несколько суровые, но не суесловные друзья и братья. Доброе утро тебе, милая чехословацкая сестра!
* * *Я сижу в здании суда, и пока незатейливо свиваются один с другим умные завитки юридической речи, сопоставляю впечатленья минувшего дня. В очередном документе мне напомнили слова Гитлера о том, что для решения жизненных задач Германии потребуются усилия двух-трёх германских поколений. А вчера пастор нюрнбергской церкви недвусмысленно внушал немецкой молодёжи, в какой степени зависит от неё будущее Германии. А здешняя газетка подарила нас сегодня известием, что известный фашист Мосли с твёрдой и непреклонной решимостью намеревается возобновить в Англии своё дело… Я слушаю о нарушениях Германией договоров и гадаю: наступит ли время, когда и без договоров людям не придёт в голову жарить ребят в крематориях и обрушивать целые вулканы на спящие города, как никому здесь на процессе не приходит, например, в голову плюнуть в ухо соседу.
Как мало надо для полного человеческого счастья и каким трудным кружным путём идёт к нему человечество, хотя это счастье лежит совсем рядом, может быть — на расстоянии его руки.
Нюрнберг.
«Правда», 10 декабря 1945 г.
Тень Барбароссы
Сегодня обвинители молчат, слово предоставлено киноплёнке.
За три часа она подробнее расскажет про вчерашние несчастья земли, чем успела выразить за три недели медлительная человеческая речь. Кроме прямых режиссёров и исполнителей, которые нахохлились в пятнадцати шагах от нас, в постановке примет заочное участие германский император Барбаросса, и, возможно, мы увидим также, как люди с восточного пространства водворили этого знаменитого верзилу назад, под могильную плиту. Пробелы придётся восполнить по памяти. Глядите же, как кралась эта подлая двадцатка к престолу вселенной в потёмках социального людского неустройства.
Гаснет свет, мы погружаемся в недавнюю ночь Европы. На экране председательствует хорошо упитанный и наглый, ещё не слинявший Альфред Розенберг. Они все тогда были моложе во главе со своим вожаком; у него не имелось тогда ещё ни армий, ни даже лишних штанов, потому что германские богачи ещё не приметили из окна это выдающееся дарование. В ту пору ещё росли, мужая в труде и учёбе, и вы, наши владыки наземного рукопашного боя, хранители советского поднебесья, дозорные наших морских глубин, и вы, витязи в танковой броне, о которых искрошились зубы Барбароссы.
Дело начинается с молчаливых шествий по улицам южно-немецких городков… но уже кого-то оживлённо лупят палкой по башке, кто-то бежит, прикрывая шляпой простреленное брюхо. И впереди, уставясь в точку перед собой, шагает будущий фюрер, весь в нашивках и ярлыках, как чемодан в кругосветном путешествии. В те годы оформлялась нацистская партия, и из его вступительной анкеты мы узнали, что, кроме артиста и полководца, биолога и историка, он считал себя также и писателем. Так крохотные козявки вползают в зрелый плод германского государства, которому затем надлежит упасть и сгнить в безмолвии всеевропейского презренья, пока не вырастет из уцелевшего семечка новое, без стальных шипов, дерево на немецкой земле.
С обычной кинобыстротой надвигается начальный съезд в чистеньком и ещё совсем целом Нюрнберге, где впервые на большой аудитории разразилась словесная истерика Гитлера. Следуют бесчисленные, строго выдержанные в дикарском стиле, факельные шествия, символические репетиции будущих поджигателей мира, и, наконец, экран заполняет жирная дата — 30 января 1933, когда Германия повергла к стопам маньяка наследие отцов и судьбу своих детей.
История переносит нас на очередное массовое фашистское радение в рейхстаге. Гесс приводит это орущее тысячеголовое быдло к присяге на верность фюреру. Германия требует кровцы на радостях, и вот чернявое лопоухое существо, помесь хорька с летучей мышью, кидает ей немецкое еврейство на разговенье. Это тот самый Геббельс, последнейший портрет которого, уже в подгорелом облике, мы увидим впоследствии в фильме о взятии Берлина Приказчики и зубоврачебные ученики в приступе тевтонской доблести деловито бьют еврейские окна. Ни одна мать в Германии не задумывается пока, чем окончится эта зловещая клоунада с парадами и кровопусканьями.
Наступает памятный вечер, на площадях райха пылают книги. Бурши с пятнистыми от дыма рожами поют заунывные заклинания, от которых Барбаросса шевелится и приподымается в своём каменном гробу. Немцы торжественно отрекаются от культуры. Толстой и Шекспир, Ленин и Горький гневным пламенем покидают эту грешную страну. Когда переполнится чаша международного терпения, союзные самолёты без сожаления полетят на трухлявые коробки Мюнхена и опустелые книгохранилища Гейдельберга: в них больше нет святынь. Гори, старая немецкая рубаха, вместе с коричневой живностью, что поселилась в твоих швах! Отныне фюрер, провозглашённый совестью нации, дозволил всё.
Черный вечер родит такое же чёрное утро. Громадное поле, и на нём дети, только что оторванные от игрушек, может быть миллион, вся завтрашняя Германия, плечом к плечу стоит на этом страшном поле. Все они — белокуренькие, отборной нордической расы, — точно бесчисленные кочны капусты в образцовом огороде. Кто это, ведьма с косой, похожая на Гесса, любуется на свой будущий урожай? Нет, это сам фюрер в высокой фуражке и с опьянелыми глазами, потому что беззакатным мнится ему это утро, даёт обстоятельный урок поведения немецким ребяткам. Он учит их — «быть как борзые», учит «безжалостно смотреть в глаза жизни и с благоговением — в пучину смерти». Яд прочно впитывается в детские души; теперь его уже не смоют ни молитвы матерей, ни их собственные слёзы, когда Россия со временем покажет им, как выглядит помянутая пучинка. Они полягут все — в песках Африки, на скалах Крита, под снегами Волги. Обвиснешь на гранёном штыке и ты, рыженький пруссачок, повалишься от снайперской пули и ты, толстощёкий мамин любимчик, потому что и тебе низины фашистской мерзости показались вершинами человеческого мужества. Небритыми, охамевшими стариками, один на тысячу, завидуя мёртвым, вернутся когда-нибудь уцелевшие на развалины своих знаменитых городов, заросших бурьяном…