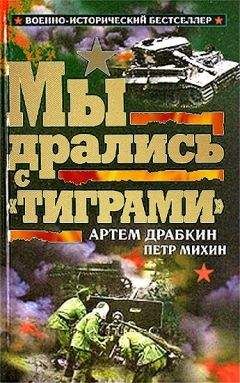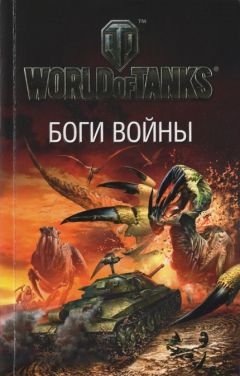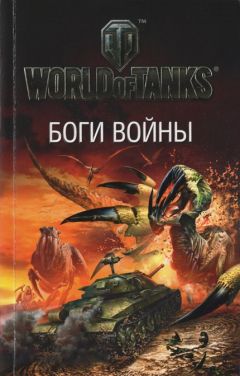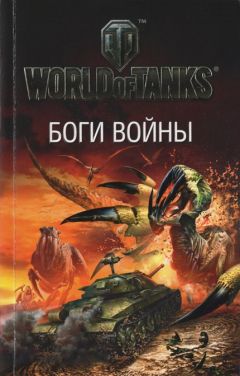Артем Драбкин - Мы дрались против «Тигров». «Главное – выбить у них танки!»
«Катюша» и другие, но и воевать не забывали. Обстрелы были беспрерывные, а каждые две-три недели они повторяли попытки прорваться, но такая была оборона и такие люди ее держали, что не дали им продвинуться ни на шаг. Уже под конец обороны Ханко частенько давалась команда: «Замолчать». Мы не стреляем весь день, никто не ходит, создаем видимость эвакуации гарнизона. То, что она будет, никто не сомневался – мы были фактически отрезаны от основных сил. Нам завезли лыжи. Это потом я уже выяснил, что у командования был план прорываться по берегу, но не думаю, что кто-либо выжил бы в этом походе. Пройти 400 километров через финскую территорию было нереально. Так вот после паузы нам давалась команда открыть огонь, не жалеть снарядов. Мы перепашем всю полосу в километре от этого переднего края. Потом опять ведем вялую перестрелку. Проходит пара недель, мы молчим. Потом врежем, опять все перепашем. Первого декабря была дана команда в полдень прекратить огонь. Наш полк отходил последним. В 12 часов ночи нам было приказано оставить орудия, выбросить замки и пешком отходить. С собой катили только мое орудие, как героическую пушку, начавшую войну. Говорят, что сейчас она стоит в Ленинграде, в музее.
Наш корабль шел впереди каравана последних судов, покидавших Ханко, но мы видели, как подорвался дизель-электроход «Сталин». Мне потом солдатик из моего расчета Султан Ахмедгаллиев, который был до этого ранен в обе руки, рассказывал, что началась паника, поднялась стрельба. Он по вентиляционной трубе выбрался на палубу, подошел тральщик и он, закрыв глаза, поскольку лететь надо было метров десять, прыгнул на его палубу. Потерял сознание, очнулся, когда его несли в госпиталь, а через пару недель он уже вернулся к нам в полк.
С прибытием в Ленинград на базе нашей бригады была сформирована 136-я стрелковая, впоследствии 63-я, Гвардейская дивизия, командовать которой назначили полковника Симоняка. Этот был грамотный командир с большим опытом и практикой, умевший готовить войска, выдвигать толковых командиров.
Воевать на Ленинградском фронте было тяжело. Люди гибли не только в боях, но и от голода. Мы стояли на берегу Невы возле деревни Новосаратовская колония. Помню, хозяин дома, в котором мы ночевали, в перерыве между боями вышел на улицу, прошел 50 метров, упал и умер от голода, а в кармане у него еще был кусочек хлеба – берег, не съел. Люди были измождены. Подойдешь к кухне, нальют тебе полкотелка горохового супа, который только так назывался – желтый и одна горошина плавает – еще снежка туда добавишь и кушаешь. А после этого еще надо и пушку по снегу таскать. Летом около пушки ляжешь, травинку тянешь, тянешь, пока не появится белая часть – съешь и новую тянешь. За день наешься. Хлеба дадут кусочек. Нарежешь кубиками и медленно эти кусочки жуешь. Ломтик съешь – вроде сыт. И ничего – толкали пушки, воевали.
Второго сентября 1942 года дивизия прорывала блокаду в районе поселка Ивановское под Усть-Тосно, в так называемой Долине смерти. Мы заняли исходные позиции, пехота выкопала траншеи метрах в 100 от проволочных заграждений. До окопов противника оставалось 100–150 метров. Мы тоже подкатили свою пушку вплотную к пехоте. Саперы сняли минные поля. Наступление должно было начаться в 8 часов утра, пока туман еще не поднялся, после артподготовки, которая должна была длиться около двух часов. Не знаю, по какой причине, но артподготовка началась с опозданием на час-полтора. К этому времени туман поднялся, и немец, заметив сосредоточенную к атаке пехоту, открыл шквальный огонь. В траншеях кровь, мясо. Ужас! Мы два часа сидим, нас бьют. Когда прошла скомканная артподготовка, пехота пошла вперед, но потери в ее рядах уже были огромными. В итоге прорыва не получилось, и мы увязли в позиционных боях, продвигаясь в день на 200–300 метров. Местность полуболотистая, полупесчаная. Передвигались по-пластунски. Винтовки не стреляют – забиты песком и грязью. В долине стояло разбитое огромное серое бетонное здание, от которого тянулась железнодорожная насыпь. Пехота гранатами немцев закидает – они с этой насыпи скатываются, мы ее занимаем. У нас гранаты кончились, они нас сбрасывают. Эта насыпь неоднократно переходила из рук в руки. Потери огромные… Но полк наступал. На каком-то участке прорвались на километр, полтора. Пушку толкали прямо за боевыми порядками пехоты. Тут налетели Ю-87, бомба разорвалась у левого колеса орудия. В живых остался я, троих ранило, из них передвигаться мог только один, а остальные, в том числе и Саша Клевцов, погибли. В это время с правой стороны поднялась группа немцев, чтобы ударить во фланг роте, которую я поддерживал. Рота! Это мы сейчас большими категориями рассуждаем: армия, дивизия, полк, батальон. А у нас в батальоне оставалось 100 человек вместо 500, а в роте 20. У немцев тоже, наверное, рота поднялась, но и в ней было не более 30–50 солдат. Пушка моя – сзади. Что делать? У пушки были разбиты панорама и колесо, но стрелять она еще могла. Откуда-то взялись силы. Я пушку за хобот развернул, и мы эту пехоту уложили, выпустив по ней остаток снарядов, штук десять, наверное. Побили не всех, конечно, но главное, они от атаки отказались. Симоняк потом сказал: «Вот ведь Шишкин! Опять у него все получилось. Отбил атаку». А я потом сутки отлеживался, приходил в себя – меня знобило. Потом я принял вторую пушку, и с этой пушкой мы продвигались вперед. Ее тоже покалечило при бомбежке.
За эти бои я первый раз был представлен к званию Героя Советского Союза, но бои были неудачные. Потери были большие, и после этих боев командующий фронтом собрал отличившихся сержантов и сказал: «Я могу вам своей властью присвоить звания младших лейтенантов, или дать документы на 3–4 месяца на учебу на Большую землю в училище». Кто-то остался, а я и еще несколько ребят отправились на Большую землю. Наверное, я смалодушничал, но прошедший год я воевал честно и просто устал, хотелось отдохнуть от войны, голода, холода.
Нас направили в Саратов во второе артиллерийское училище, где мы проучились 3–4 месяца, потратив месяц из них на заготовку дров и рытье окопов. А чему нас учить? Мы все с боевым опытом, артиллерийские премудрости знали почище некоторых училищных лейтенантов. Поэтому нам в апреле 1943 года быстренько присвоили звания лейтенантов и направили в Челябинск, получать СУ-152.
В это время формировался 30-й Уральский добровольческий танковый корпус, а в Челябинске его 244-я танковая бригада, которой командовал Фомичев. В области формировалась на добровольной основе мотострелковая бригада. Так там на каждое место было 100 заявлений. Во-первых, было сознание, что негоже в тылу сидеть, когда другие кровь проливают, а во-вторых, в тылу плохо было. На фронте кормят, а тут жрать нечего.
Нашим 1545-м тяжелым самоходным полком поставили командовать одного, так скажем, ретивого офицера. Он, например, перед строем рядового состава мог покрыть матом любого офицера. А это грубейшее нарушение устава! Каково было солдатам слушать, как мордуют их командира?! Ребята-лейтенанты говорили: «Придем на фронт, он свое увидит». Полк перед отправкой на фронт находился в центре самоходной артиллерии. Этот командир полка уехал куда-то в день погрузки. Полк получил команду на погрузку, а начальник штаба доложил в Центр, что командира полка нет, убыл в неизвестном направлении. Буквально через час к нам на перрон на станцию Мамонтовка прибыл крупный такой мужчина, как потом выяснилось, новый командир полка Тихон Ефремович Карташов. Походил, никого ни о чем не спрашивал, только смотрел: кто, как, что делает. Так он принимал полк. Другой бы начал учить. Такие тоже были – учили, как танк грузить, а для этого есть лейтенанты, старшины. Я чуть позже расскажу про наш первый бой, но когда мы из него вышли, то оказалось, что соседний танковый полк, которым волею судьбы командовал наш бывший командир полка, потерял почти все машины. Мы потом разговаривали с ребятами: «Ну как с нашим дураком воевать? Только и знает, что «Вперед!» А Карташов нам говорил: «Полезете на рожон, я вас первый прихлопну! Вот кустики, вот овражек, вот скирда, используйте местность, внезапность, скрытность». Вот такие командиры и выигрывали войну. Нашего командира ценили и начальство, и солдаты, поскольку полк всегда был готов и к бою, и к маршу. Первыми командами после боя были: «осмотреть оружие, выверить прицелы, заправить машины боеприпасами и горючим, проверить ходовую». Только потом разрешалось поесть и поспать. Поэтому у нас подбитых танков много, а потери небольшие.
Конечно, относительно небольшие потери в нашем полку объясняются еще и тем, что нас использовали для поддержки. Мы только обеспечивали выполнение задачи основным боевым подразделениям – танковым и стрелковым, которым нас придавали, а не решали самостоятельные задачи.
Первый бой мы приняли на реке Нугрь, за которой на крутом берегу виднелась деревня Большая Чернь, превращенная немцами в опорный пункт. Оттуда по наступающим по большому ржаному полю танкам и пехоте били 88-мм зенитки. В этой ржи не поймешь, откуда стреляют. Танки горят. Наводчик Бычков у меня был отличный. В этом бою он сжег два танка. В какой-то момент по нам попали. В рубке – искры, запах каленого металла, гарь. Механик-водитель Никонов бросил машину в низинку. Я вылез из люка, стал оглядываться. С трудом обнаружил противотанковую пушку на окраине поля в кустарнике. Мы вышли из ее сектора обстрела, и она теперь била по танкам. Я решил развернуться и, наведя орудие на ориентир в створе с пушкой, выкатиться на нее для выстрела. Если с первого выстрела не попадем – нам хана. Едва мы вышли из низинки, как пушка стала разворачиваться в нашу сторону. Бычков крикнул: «Выстрел!» – и одновременно раздался грохот. Я успел крикнуть: «Никонов! Назад!», но это было лишним – Бычков попал.