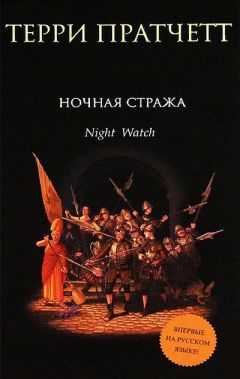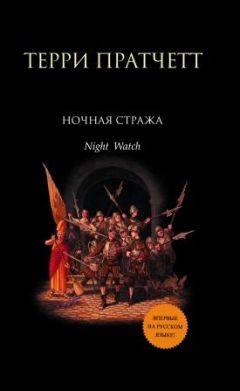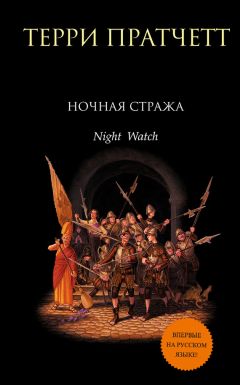Марк Алданов - Земли, люди
Отъ этой странной картины, отъ этихъ людей, бѣгущихъ неизвѣстно куда, возбужденныхъ неизвѣстно чѣмъ, бьющихъ въ барабанъ неизвѣстно для чего, отъ этой картины вѣетъ безуміемъ.
________________________
Петербургскій чиновникъ изъ Коломны былъ влюбленъ въ дѣвицу. Въ городѣ произошло наводненіе. Чиновникъ спасся, оказавшись «на звѣрѣ мраморномъ верхомъ», недалеко отъ памятника Петра Великаго. По окончаніи наводненія, онъ поспѣшилъ къ дѣвицѣ и увидѣлъ, что ея домика больше нѣтъ. Чиновникъ тутъ же сошелъ съ ума. Затѣмъ онъ прожилъ почти годъ въ Петербургѣ, гуляя на свободѣ, питаясь «въ окошко поданнымъ кускомъ». Однажды онъ попалъ на площадь, на которой стоитъ памятникъ. Сумасшедшему чиновнику показалось, что во всемъ виноватъ Петръ. Злобно задрожавъ, онъ обратился было къ царю съ гнѣвной рѣчью, но испугался, бросился бѣжать и вскорѣ затѣмъ умеръ.
Таково въ грубомъ пересказѣ содержаніе геніальной поэмы. Извѣстны толкованія ея символическаго смысла. Они исходятъ изъ антитезы: Петръ — Евгеній. Борьба индивидуальной воли съ коллективной. Мятежъ и самодержавіе. Думаю, что чисто политическое толкованіе «Мѣднаго Всадника» для него слишкомъ узко. Быть можетъ, и самъ Петръ взятъ въ поэмѣ, преимущественно, какъ символъ судьбы, — не какъ государственный дѣятель, а какъ русская стихія. Недаромъ Пушкинъ, наряду съ Петромъ, такъ искусно навязываетъ читателю Неву: Петръ, Нева, Нева, Петръ... Словесная сила выраженія обоихъ символовъ, безпрестанно возвращающихся, какъ навязчивая идея, растетъ непрерывно: «... Нева металась, какъ больной въ своей постелѣ безпокойной»... «... Нева всю ночь рвалася къ морю противъ бури»... «...Но силой вѣтра отъ залива перегражденная Нева», — и т. д. Одновременно «вдалбливается» Петръ: «И обращенъ къ нему спиною, въ неколебимой вышинѣ, надъ возмущенною Невою, стоитъ съ простертою рукою кумиръ на бронзовомъ конѣ»... «...И прямо въ темной вышинѣ надъ огражденною скалою кумиръ съ простертою рукою сидѣлъ на бронзовомъ конѣ»... Наконецъ, въ важнѣйшемъ своемъ явленіи оба символа разрѣшаются съ такой звуковой силой, равной которой нѣтъ въ русской литературѣ: «Нева вздувалась и ревѣла, котломъ клокоча и клубясь»... «...И, озаренъ луною блѣдной, простерши руку къ вышинѣ, за нимъ несется Всадникъ Мѣдный на звонко скачущемъ конѣ. И во всю ночь безумецъ бѣдный, куда стопы ни обращалъ, за нимъ повсюду Всадникъ Мѣдный съ тяжелымъ топотомъ скакалъ».
Чиновникъ, странно — по имени — названный въ поэмѣ, прогулялъ сумасшедшимъ годъ по улицамъ Петербурга; ему изъ оконъ добрые люди подавали пищу,— и никто, очевидно, не замѣчалъ, что онъ сошелъ съ ума. Это довольно мало вѣроятно, однако, могло быть; Пушкинъ увѣряетъ даже, что было. Точно также въ отрядѣ Баннинга Кока, при мирной церемоніи выхода, одинъ изъ воиновъ могъ безъ надобности палить надъ ухомъ другого. Могла затесаться въ отрядъ и какая-то непонятная дѣвочка съ мертвой птицей на поясѣ. Все это могло быть. Однако, и Пушкинъ, и Рембрандтъ вѣрно сумѣли бы сдѣлать свое произведеніе и нѣсколько болѣе правдоподобнымъ. Очевидно, это имъ было ненужно. Въ школьныхъ терминахъ скажемъ, что нѣкоторая (не очень большая) доля неправдоподобія способствуетъ превращенію реалистическаго искусства въ символическое. У Рембрандта и свѣтъ, какъ нарочно, падаетъ на самые неправдоподобные эпизоды картины; а вѣдь у него свѣтъ опредѣляется не только «радостью глаза». Мы не знаемъ, что онъ хотѣлъ сказать. Но, конечно, дѣло у Рембрандта не въ капитанѣ Кокѣ и не въ лейтенантѣ Рейтенбургѣ, какъ у Пушкина дѣло не въ чиновникѣ Евгеніи и не въ его невѣстѣ Парашѣ. За ними
Судьба съ невѣдомымъ извѣстьемъ,
Какъ съ запечатаннымъ письмомъ...
Мы, собственно, такъ и не знаемъ, что онъ былъ за человѣкъ. Нѣкоторые біографы утверждаютъ, будто Рембрандтъ не обладалъ большой культурой. Въ живописи, въ смежныхъ съ ней видахъ искусства, и это возможно. На Колоніальной выставкѣ показывали Анкгорскій храмъ— настоящее чудо искусства, въ своемъ родѣ стоящее Парижскаго Собора Божьей Матери. Кто его создалъ? Дикари, — или, во всякомъ случаѣ, люди, которыхъ мы привыкли считать дикарями.
Рембрандтъ наименѣе голландскій изъ всѣхъ голландскихъ художниковъ. Вѣдь классическая голландская живопись, при всей своей правдивости, нѣсколько веселѣе, чѣмъ жизнь, — какъ классическая итальянская живопись нѣсколько красивѣе, чѣмъ жизнь, и даже гораздо красивѣе. Въ этомъ смыслѣ, Рембрандтъ — первый вполнѣ честный человѣкъ въ исторіи искусства, первый, не злоупотреблявшій красотою: онъ убавилъ красоты и въ природѣ, и въ людяхъ. Премированныя красавицы, древнія и не древнія, въ его изображеніи не выиграли. Въ Гаагскомъ Музеѣ виситъ его изумительный «Саулъ», — кто до Рембрандта рѣшился бы на такой картинѣ изобразить Давида рыжимъ некрасивымъ человѣкомъ? Кто прибавилъ бы легкое (еле замѣтное) самолюбованіе Гомеру, — въ немъ Рембрандтъ показалъ не только генія, но и «литератора». Такъ онъ писалъ и портреты своихъ заказчиковъ. Вѣроятно, поэтому онъ и умеръ на соломѣ. «Онъ видитъ въ сюжетѣ лишь мѣщанскую и вульгарную сторону»,— говоритъ Лэрессъ. То же самое говорили впослѣдствіи о Гете! «Когда дѣло доходитъ до возвышенныхъ чувствъ, онъ ихъ слегка поливаетъ грязью, чтобы не оставить ничего божественнаго въ человѣческой природѣ», — писалъ объ авторѣ «Фауста» очень близкій ему человѣкъ.
«Міръ великое крушеніе, девизъ людей: спасайся, кто можетъ», Говоритъ Вольтеръ. Чѣмъ «спасался» Рембрандтъ, мы не знаемъ. Едва ли одной вѣрой въ свое правдивое искусство. Первое впечатлѣніе отъ его живописи: этотъ человѣкъ органически не можетъ лгать, — онъ пишетъ то, что видитъ. Второе впечатлѣніе: но видитъ онъ и многое такое, чего нормальные люди не видятъ. На свой основной вопросъ: «а дальше что?» искусство отвѣчаетъ по разному, — отъ старомоднаго отвѣта: «дальше идея», до нынѣшняго (или, быть можетъ, вчерашняго): «дальше ровно ничего». Въ реалистическомъ искусствѣ Рембрандта даже мясная туша — съ тяжелой ирраціональной начинкой.
________________________
Изъ жилищъ Декарта въ Голландіи осталось одно.
Это, впрочемъ, не домикъ, а замокъ, — правда, небольшой. Онъ находится въ окрестностяхъ Лейдена и называется Эндегестъ. Стоитъ въ старомъ тѣнистомъ саду, по которому протекаетъ ручеекъ. Изъ башенъ видъ на поля. Садъ, вѣроятно, мало измѣнился съ той поры, когда здѣсь жилъ Декартъ.
Его жизнь мало извѣстна; плохо установлена и хронологія его великихъ открытій. Какія именно изъ идей, вызвавшихъ переворотъ въ математикѣ, въ философіи, въ физикѣ, открывшихъ новые пути десяти наукамъ, зародились въ замкѣ Эндегестъ, — сказать съ точностью трудно. Во всякомъ случаѣ, здѣсь, въ этихъ башняхъ, въ аллеяхъ этого тѣнистаго сада, было то, что современный философъ назвалъ «великимъ побѣднымъ торжествомъ разума на порогѣ новой исторіи». И въ самомъ дѣлѣ Декартъ, — по крайней мѣрѣ, въ этотъ періодъ своей жизни, — твердо вѣрилъ, что разумъ преобразитъ жизнь, что онъ побѣдитъ самую смерть: благодаря успѣхамъ медицины и гигіены, люди будутъ жить долгія сотни лѣтъ.
Я никакъ не думаю, что муниципалитетъ города Лейдена, которому принадлежитъ замокъ Ундегестъ, поставилъ себѣ мудреныя символическія цѣли съ дешевымъ дьявольскимъ оттѣнкомъ: профессія муниципальнаго совѣтника явно не заключаетъ въ себѣ ничего демоническаго. Однако, никакой Мефистофель не могъ бы дать этому замку болѣе изумительное назначеніе:
Въ замкѣ Эндегестъ теперь помѣщается Лейденскій домъ умалишенныхъ!
________________________
Въ пріемной докторъ окинулъ меня быстрымъ, хмурымъ, профессіональнымъ взглядомъ: зачѣмъ пожаловалъ? — Въ этотъ домъ рѣдко приходятъ безъ трагедіи: что еще, если не о себѣ, то объ отцѣ, о женѣ, о братѣ разскажетъ новый человѣкъ?
Выслушалъ меня вѣжливо, съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ, безъ большого любопытства.
— Декартъ? Философъ Декартъ?... Онъ жилъ здѣсь? Не слыхалъ... Вы увѣрены, что онъ жилъ здѣсь?
—Совершенно увѣренъ.
—Никогда не слыхалъ... Очень интересно... Къ сожалѣнію, я не имѣю права впустить васъ безъ разрѣшенія директора. Вамъ придется обратиться къ нему.
Директоръ, извѣстный лейденскій психіатръ Штюрманъ, разрѣшилъ мнѣ осмотрѣть замокъ Эндегестъ. И въ замкѣ едва ли многое измѣнилось со временъ Декарта. Кабинетъ его былъ, повидимому, въ правой башнѣ: здѣсь теперь помѣщается администрація.
—Во второмъ этажѣ больные, но ихъ тамъ не много. Большая часть помѣщается въ новыхъ корпусахъ въ саду. Докторъ васъ проводитъ.
Въ большой комнатѣ со стариннымъ бревенчатымъ потолкомъ радіоаппаратъ игралъ веселую нѣмецкую пѣсенку. Ее сверху слушали сумасшедшіе. Докторъ съ улыбкой на меня смотрѣлъ.
—Васъ, вѣроятно, интересуетъ беллетристическая сторона дома умалишенныхъ? Этого здѣсь не много. Если хотите, я покажу вамъ королеву...
Корпуса въ саду. Мужчины, женщины, дѣти... Зрѣлище слишкомъ тяжелое для того, чтобы его описывать въ газетѣ. Отчего такъ много сумасшедшихъ въ этой процвѣтающей счастливой странѣ?