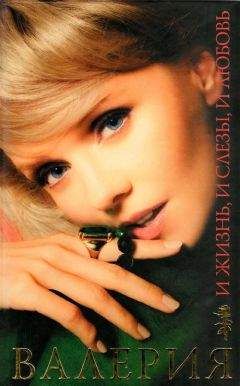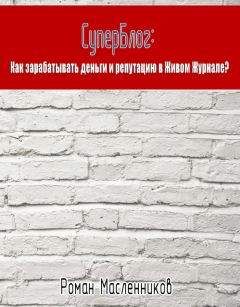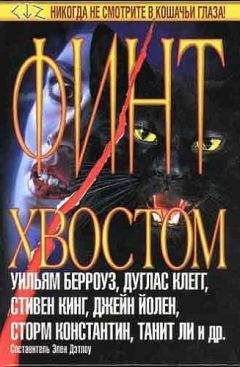Валерия Пустовая - Матрица бунта
Литература. Импульсом к повествованию в прозе Сенчина является потребность в рефлексивном испытании правды с тем, чтобы поставить ребром мучающий вопрос. Прилепин силой эмоции дотягивает до аксиомы любое предположение, Сенчин, наоборот, любую аргументированную предпосылку может развить до ее противоположности, силой мысли подточить свое же доказательство. Не случайно одни и те же сюжеты разыграны Сенчиным с разным раскладом правоты, с противоположных позиций, и потому с несовпадающими выводами: вспомним хотя бы, как он и так, и этак вертит ситуацию побега художника из города в деревню («Чужой», «В норе», «Проект», «Малая жизнь»). Смена персонажей, исходных мотивов позволяет менять точки осмысления ситуации, возобновлять спор с самим собой, так и оставаясь не убежденным.
В прозе Сенчина поэтому мечта предпочтительней авантюры, намерение существенней поступка — рефлектеру достаточно углубиться в замысел для того, чтобы оценить действие, и корни его, и плоды. По мере созревания автора эмоции уступали место анализу, позволяя увеличивать глубину проникновения в смысловое существо вопроса, преодолевать барьер первоначальной стрессовой реакции.
Сверхлитературная задача этой прозы оставляет по исполнении избыточное количество черновых обработок вопроса. Каковы параметры художественного достижения в такого типа литературе? Как отделить существо от материала[73], прорыв от провисания[74]? Видимо, художественность тут приходится измерять, исходя из источника вдохновения: опыт рефлексивного проживания преображается в литературу тогда, когда автору удается в наибольшей степени продвинуться к предельным основаниям исследуемой ситуации, увидеть за социальным — экзистенциальное, за классовым — универсальное.
Сходны по стержневому сюжету упущенной любви повести «Один плюс один» и «Минус». Но первая исполнена чистой музыки тоски, тогда как вторая замутнена анализом социальных язв, посторонних духовной жажде героя, и отвлеченными рассуждениями по любому поводу.
Захламлена поверхностными заботами, как коробками из-под обуви, история неудавшегося предпринимателя из повести «Нубук», — интересней вялые похождения героя «Минуса», которому автор позволил сосредоточиться на самоощущении души.
Задевает фельетонная злость романа «Лед под ногами», — но дороже и глубже эффект всепрощения, который вызывает картина всечеловеческой экзистенциальной катастрофы в повести «Конец сезона».
Трогает, и только, социально обусловленное уныние институтского преподавателя из повести «Ничего страшного», — но потрясают пронзительное отчаяние его дочери, осознавшей себя перед лицом времени.
Убавленная громкость и нарочитая некрасота прозы Сенчина выдает ее предельно не прагматичный характер. Это безнажимная эстетика: писатель не ставит цели навязать себя, занятый одною определяющей его жизнь правдой. И, по сути, тексты его обращены к таким же задумавшимся над собой одиночкам, к тем, кто способен оценить весомость поставленного им вопроса и готов, растравленный прочитанным, самостоятельно его разрешить.
Роль в культуре. Когда потребительским мейнстримом освоены все популяризируемые сферы духа (вспомним тему вырождения рок-подполья в рок-агитацию в романе «Лед под ногами»), не-зрелищное, трудное, серьезное слово приобретает вес поступка. Проза Сенчина представляет собой пример осознания слова как дела, не нуждающегося во внеположенном ему оправдании: «Пока есть возможность не стать насекомым — лучше всеми силами не становиться. Бороться с обитателями муравейников (ульев, осиных гнезд, термитников, опарышевых убежищ) всеми средствами. Лучше — словом. Ведь только у человека есть дар слова и средства, чтобы слово запечатлеть. Лучше писать о насекомых, чем становиться насекомым. Насекомые писать не могут, и пути из насекомого обратно, кажется, нет. У жизни не предусмотрен задний ход» («Не стать насекомым»)[75].
На каких весах соизмерить успех писателей столь разной природы? Премия «Нацбест-2008» Захару Прилепину, популяризирующая жанр рассказа как перспективный для книготорговли, — заметка Романа Сенчина, которая не одного писателя спасет от творческого самоубийства.
(Опубликовано в журнале «Континент». 2009. № 140. Печатается в дополненном и исправленном варианте).
Ничё о ником
Апофатик Пелевин
«Писатель, в эпоху которого служили народу Брежнев, Горбачев, Путин», — отшучиваются издатели в аннотации к его последнему роману[76]. Если мерить время Пелевиным, то конец девяностых запомнится как период его вынужденного ухода в подполье — а излет нулевых как затянувшаяся инаугурация.
Десятилетие назад представители литературного сообщества не только не отметили «Русским Букером» его наиболее значительный роман «Чапаев и Пустота», но даже не включили Пелевина в список финалистов премии. Этот, с сегодняшней точки зрения, казус стал поводом к концептуальному выступлению маргинального философа и публициста Сергея Корнева, который, в противовес профессиональному жюри, показал Пелевина духовным и эстетическим лидером современной словесности, на новом этапе развивающем идеи русских классиков[77].
Теперь Пелевин из рук читателей культурного портала «Openspace.ru» получил титул самого влиятельного интеллектуала России[78]. К этому времени и «Русский Букер», и профессиональное сообщество литераторов, когда-то отправившие его в андеграунд, сами перешли на маргиналии общественного сознания. И наоборот, публично, волей электората утвержденный авторитет Пелевина ввел его в новую культурную номенклатуру. Сегодня этот писатель — один из элементов общественной стабильности: из никому не удобного оппозиционера, каким запечатлел его Корнев, он превратился в лидера, который устраивает всех. Это новое положение писателя вполне отразилось в эссе публициста и прозаика из тридцатилетних Германа Садулаева. В противоположность Корневу, он развенчивает Пелевина как духовного гуру и эстетического радикала, показывая его «шутом», чья простецкая философия удовольствия обслуживает привилегированные слои современного капиталистического общества, а словесные фокусы дурят народ[79].
Зеркальные по смыслу выступления Корнева и Садулаева решают на деле один и тот же вопрос, сопутствовавший всем достижениям Пелевина: возможно ли снискать популярность, оставаясь серьезным писателем? Не только в писательской репутации Пелевина заложена эта двойственность: тиражи и цитируемость популярной литературы — при идейной задаче и культурной памяти литературы качественной, даже элитарной. В самом его творчестве разделение на «высокий» и «низкий» план очень заметно, и именно это не позволяет однозначно определить, кто перед нами: интеллектуал или «шут», философ или сатирик, большой писатель или памфлетист, актуальный, пока живы описанные им реалии?
Особую трудность для критики стал представлять тот факт, что в каждой последующей книге Пелевина обновляется только «низовой», смеховой, популярный план, тогда как на уровне высоких смыслов со времен «Чапаева и Пустоты» ничего не сдвинулось. Кто видит в Пелевине только ловкого пересмешника актуальной действительности — с них довольно и того, что автор устроил правящим мифологемам «революции» и «культурной традиции», «рекламы» и «политтехнологий», «гламура» и «дискурса» публичную порку, сиречь деконструкцию. Но что думать тем, кто, подобно Корневу, ценит пелевинский дар ставить и разрешать вечные вопросы на языке, понятном эпохе победившей виртуальности?
Пелевин-философ начал отставать от Пелевина-сатирика. И его влиятельность как интеллектуала — не инерционного ли толка? Сохранившие мессианский тон, его новые вещи не звучат как откровения. То, что стало возможным выявить «формулу творчества» Пелевина, как это сделал критик Андрей Степанов[80], говорит не столько о цельности сложившегося понимания писателя, сколько о схематичности, а значит, мертвенности его творений.
Если избегать формул, можно сказать, что книги Пелевина устроены как один и тот же фокус — с ящиком. Роман его выдвигается, как большой полый короб, куда кладутся добровольцы и аксессуары по вкусу: дорогие часы и мечты, красотки-ассистентки и зазевавшиеся зрители, — и после демонстрации заполненного нутра задвигается обратно, с тем чтобы ничего не вернуть. Это против цирковых правил — но вполне отвечает задуманному эффекту: когда фокусник не возвращает нам самое дорогое, мы ощущаем острую, не обыденную радость. Нам становится легко и свободно, так, словно и мы исчезли с нашим самым дорогим и нас тоже никогда не вернут этому тесному темному залу с типовыми сиденьями.