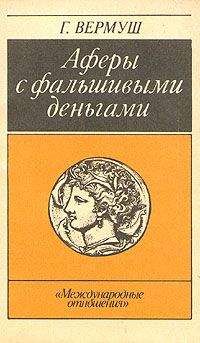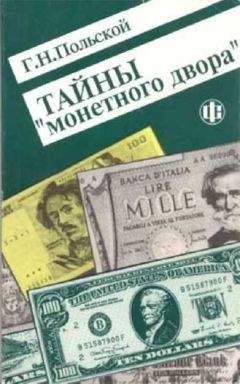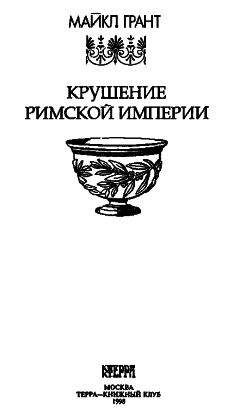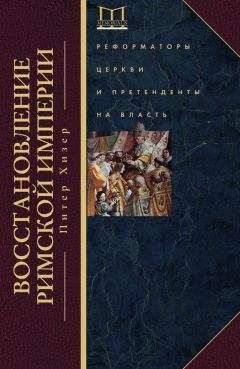Михаил Крепс - О поэзии Иосифа Бродского
Если вдруг забредаешь в каменную траву,
выглядящую в мраморе лучше, чем наяву,
иль замечаешь фавна, предавшегося возне
с нимфой, и оба в бронзе счастливее, чем во сне,
можешь выпустить посох из натруженных рук:
ты в Империи, друг.
("Торс")55
Иронически поэт говорит о тех произведениях литературы, которые иные читатели считают смелыми, хотя смелость эта зачастую ограничена очень твердыми рамками гос- и самоцензуры (в имперском обществе официальный поэт сам знает что можно, а что нельзя), а иногда на поверку оборачивается угодничеством:
В расклеенном на уличных щитах
"Послании к властителям" известный,
известный местный кифаред, кипя
негодованьем, смело выступает
с призывом Императора убрать
(на следующей строчке) с медных денег.
Толпа жестикулирует. Юнцы,
седые старцы, зрелые мужчины
и знающие грамоте гетеры
единогласно утверждают, что
"такого прежде не было" -- при этом
не уточняя, именно чего
"такого":
мужества или холуйства.
Поэзия, должно быть, состоит
в отсутствии отчетливой границы.
В данном случае под "известным местным кифаредом" стоит реальное лицо -- поэт Андрей Вознесенский с его стихотворением-призывом убрать Ленина с денег:
Я не знаю, как это сделать,
Но, товарищи из ЦК,
Уберите Ленина
с денег,
Так цена его высока.56
И далее:
Я видал, как подлец мусолил
По Владимиру Ильичу.
Пальцы ползали
малосольные
По лицу его, по лицу.
Положение дел при любой имперской системе -- борьба за власть, а следовательно, доносы, интриги, нечестные махинации, подкупы, обман. В стихотворении "Письма римскому другу" герой предпочитает отойти от общественной деятельности и жить подальше от столицы, где главными занятиями приближенных Цезаря являются интриги да обжорство:
Пусть и вправду, Постум, курица не птица,
но с куриными мозгами хватишь горя.
Если выпало в Империи родиться,
лучше жить в глухой провинции у моря.
И от Цезаря далеко, и от вьюги.
Лебезить не нужно, трусить, торопиться.
Говоришь, что все наместники -- ворюги?
Но ворюга мне милей, чем кровопийца.57
Зрелища в империях представляют массовый, организованный характер; "всенародное ликование" -- не выдумка, а реальная реакция зрителей на то, что происходит на стадионе, который весь "одно большое ухо" ("Post Aetatem Nostram"). Имперские власти придают огромное значение всяким зрелищам и юбилеям, ибо знают, что "для праздника толпе /совсем не обязательна свобода" ("Anno Domini"). Интересно, что тема "зрелищ" -- давняя у Бродского, звучит уже в "Гладиаторах", где поэт, правда, находится еще не в публике, а на арене:
Близится наше время.
Люди уже расселись.
Мы умрем на арене.
Людям хочется зрелищ.58
По-видимому, Бродский не видит большой разницы между демократиями и тоталитарными государствами, так как везде есть власть имущие и безвластные. Переезд из СССР в США -- это для него лишь "перемена империи". Есть империи похуже, есть получше, но суть их для поэта одна и та же. Поэт считает, что человек в общем всегда жил так, как жил всегда и всегда будет так жить, отклонения вправо или влево общей картины жизни не меняют:
Пеон
как прежде будет взмахивать мотыгой
под жарким солнцем. Человек в очках
листать в кофейне будет с грустью Маркса.
И ящерица на валуне, задрав
головку в небо, будет наблюдать
полет космического аппарата.
("Мексиканский дивертисмент", Заметка для энциклопедии)59
Такая точка зрения была характерна для взглядов поэта, в общем, изначально, нота неизменности мира звучит уже в "Пилигримах":
... мир останется прежним.
Да. Останется прежним.
Ослепительно снежным.
И сомнительно нежньш.
Мир останется лживым.
Мир останется вечным.
Может быть, постижимым,
но все-таки бесконечным.
И значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
И значит, остались только
Иллюзия и дорога.60
Эта же далеко не оптимистическая нота характерна и для поэзии Бродского пятнадцать лет спустя, нота, заданная еще Пушкиным, сказавшим, что "на всех стихиях человек -- тиран, предатель или узник":61
Скушно жить, мой Евгений. Куда ни странствуй,
всюду жестокость и тупость воскликнут: "Здравствуй,
вот и мы!" Лень загонять в стихи их.
Как сказано у поэта "на всех стихиях..."
Далеко же видел, сидя в родных болотах!
От себя добавлю: на всех широтах.
("Мексиканский дивертисмент", К Евгению)62
8. Одиночество. Часть речи
Отчуждение личности от общества и от своей роли приводит человека к "подлинной экзистенции", к "абсолютной свободе". Учение об "абсолютной свободе" детально разработано у Сартра63 и известно чаще всего в его интерпретации.
"Абсолютная свобода" вовсе не сводится к карамазовскому "все позволено", напротив, свобода -- тяжкое бремя для человека, поэтому многие люди предпочитают уйти от нее, раствориться в обществе, отказаться от права своего личного выбора и подчиниться закону толпы или группы, диктующей законы сегодня.
"Абсолютная свобода" -- это прежде всего свобода выбора себя и несение полной ответственности за этот выбор. Однако "абсолютная свобода" достижима лишь для мужественных людей, не боящихся смотреть прямо в глаза своей экзистенции. Ибо "абсолютная свобода" есть одиночество, которое не каждый человек может вынести. Одиночество -- это одна из "пограничных ситуаций", которые переживаются экзистирумщей личностью и приносят ей страдание. Мотив одиночества -- один из доминирующих в поэзии Бродского, прослеживается с самых ранаих его стихотворений:
Как хорошо, что некого винить,
как хорошо, что ты никем не связан,
как хорошо, что до смерти любить
тебя никто на свете не обязан.
Как хорошо, что никогда во тьму
ничья рука тебя не провожала,
как хорошо на свете одному
идти пешком с шумящего вокзала.
Как хорошо, на родину спеша,
поймать себя в словах неоткровенных
и вдруг понять, как медленно душа
заботится о новых переменах.
("Воротишься на родину...")64
Наиболее трагически тема одиночества начинает звучать в зрелой поэзии Бродского периода сборников "Конец прекрасной эпохи" и "Часть речи", особенно в цикле, давшем название последнему. Так как тема эта лейтмотивная, анализ цикла неизбежно затронет и другие лейтмотивные темы, находящиеся в спайке с ней и поэтически неотделимые от нее.
Цикл "Часть речи"65 кажется наиболее пессимистическим из всего написанного Бродским. Он состоит из двадцати небольших стихотворения без каких-либо заглавий. Почти каждое стихотворение содержит три строфы, соединенные вместе в одно двенадцатистрочное целое. Все стихотворения цикла написаны от имени автора и проникнуты мотивами одиночества, разлуки с любимой, отсутствия веры в искренность дружеской и читательской поддержки, мотивами временного безразличия к окружающей среде, к людям, к грядущему. Несколько раз в стихотворениях слышатся ноты потери ориентации и даже рассудка. Первое стихотворение является экспозицией ко всему циклу. Поэт ассоциирует себя с человеком, который сродни герою "Записок сумасшедшего" Гоголя. Его стихи направлены неизвестно откуда, неизвестно когда и неизвестно кому:
Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,
дорогой уважаемый милая, но неважно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнить уже, не ваш, но
и ничей верный друг ...
Расплывчатость, размытость границ времени и пространства характерна для многих стихотворений этого цикла. Поэт замкнулся, ушел в себя, потерял интерес к постижению окружающего мира в терминах привычных и точных понятий и названий, он обращается к читателю не из Америки, а "... с одного /из пяти континентов, держащегося на ковбоях;". Место, в котором он живет, невозможно найти на карте -- это "городок, занесенный снегом по ручку двери", затерянный где-то в пространстве так же, как и другие места, о которых размышляет поэт: "Ты забыла деревню, затерянную в болотах /залесенной губернии". В одном из стихотворений действие происходит около несуществующего Средизимнего моря -- каламбур, сходный по отдалению от реальности с "мартобрем" первого. Эта недискриминативность в других случаях становится приемом, которым поэт пользуется, чтобы избежать точного названия места действия, о котором читатель и так может легко догадаться по смыслу "Я родился и вырос в балтийских болотах", "В городке, из которого смерть расползалась по школьной карте", "в раздевалке в восточном конце Европы". В этом смысле цикл является разительным контрастом по сравнению со стихотворениями жанра "туристического комментария" с их точными указаниями времени года, стран, городов, морей, архитектурных памятников и исторических событий.
В "Части речи" вся история, вся культура, весь реальный мир находятся за пределами поэтического восприятия, имеются лишь отдельные обломки этого мира, невесть почему всплывшие на поверхность поэтического сознания и неизвестно чем друг с другом связанные. Мир, в который помещен поэт, зачастую лишен карт и календарей, время года определяется вовсе не по известной последовательности чередования, а по внешним приметам, как в сознании первобытного человека: "потому что каблук оставляет следы -- зима"; таким же прихотливым образом исчисляется и время: "за рубашкой в комод полезешь, и день потерян". Имеется отвлеченный дом, где живет герой, отвлеченная улица, на которую он выходит из этого дома, отвлеченный городской или сельский пейзаж, реальный или возникающий в его воображении, причудливо сочетающиеся обрывки прошлой и настоящей жизни.