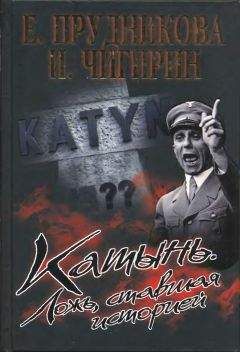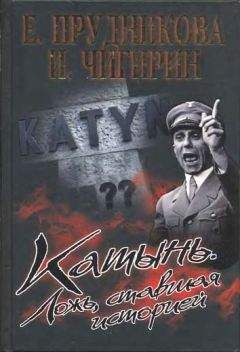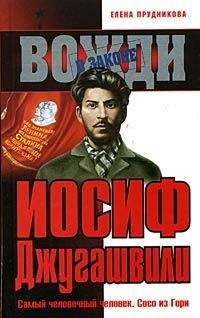Алексей Цветков - Антология современного анархизма и левого радикализма
Все неразрешенные, несмещенные вовремя противостояния ослабевают. Такие противостояния могут эволюционировать только в том случае, когда они заключены в предыдущих, несмещенных формах (например, искусстве, направленном против культуры, внутри культурного спектакля). Любая экстремальная оппозиция, которая терпит крах или добивается лишь частичной победы (что по сути одно и то же), постепенно вырождается в оппозицию реформистскую. Фрагментарные оппозиции как зубья на шестернях, они сцепляются и заставляют работать машину спектакля, машину власти.
Миф сохранял весь спектр противостояний, весь набор антагонизмов внутри манихейского архетипа. Но что может служить архетипом в раздробленном обществе? Воспоминания о прошлых противостояниях, представленные в обесцененной и неагрессивной форме, сегодня выглядят, как последняя попытка внести некоторую последовательность в организацию внешнего — настолько далеко уже ушел спектакль по дороге вырождения в фарс запутанности и усреднен-ности. Мы готовы стереть всякий след этих воспоминаний путем аккумуляции всего заряда, накопившегося в прошлых противостояниях, для грядущей глобальной борьбы. Все ручьи, которые власть так долго блокировала, однажды прорвутся мощным потоком, водопадом, который изменит лицо мира.
В общей карикатуре противостояний власть призывает каждого занять свою позицию по отношению к Бриджит Бардо, к новому роману, «ситроену» в четыре лошадиных силы, итальянской кухне, мес-калю (мексиканской водке из сока алоэ), мини-юбкам, ООН, классикам, национализации, термоядерной войне и езде автостопом. Каждого человека спрашивают его мнения о малейшей детали, чтобы не дать ему возможности сформировать своей позиции в отношении всеобщности — совокупности вещей в их целостности. Каким бы неуклюжим ни был такой маневр, он бы сработал, если бы агенты, которым было поручено нести его от двери к двери, не очнулись и не осознали своей собственной отчужденности. Теперь же к пассивности обездоленных масс добавляется еще и растущая пассивность режиссеров и актеров, подвергнутых абстрактным законам рынка и спектакля и все бесповоротнее теряющих из-за этого реальный контроль над миром. Признаки назревающего недовольства происходящим уже видны среди актеров — это и звезды, пытающиеся сбежать из-под света прожекторов, и правители, критикующие свою собственную власть (Бриджит Бардо, Фидель Кастро). Инструменты власти изнашиваются, поскольку их воля к свободе — это фактор, которым нельзя пренебрегать.
19В тот самый момент, когда восстания рабов угрожали перевернуть структуру власти и выявить отношения между трансцендентностью и механизмом личного присвоения, явилось христианство со своим грандиозным реформаторством, главным демократическим требованием которого было условие рабам согласиться не на реальность человеческой жизни, потому что это было бы невозможно без осуждения отшельнического аспекта личного присвоения, а на нереальность существования, которое черпает счастье из мифа (имитация Христа как цены того, что последует дальше). Что изменилось? Ожидание того, что грядет, превратилось в ожидание радужного завтра; жертва жизни настоящей и немедленной — вот цена, уплаченная за иллюзорную свободу жизни кажущейся. Спектакль — это та сфера, где насильный труд превращается в добровольную жертву. В мире, где выживанием шантажируют труд, максима «каждому по труду», пожалуй, наиболее подозрительна, не говоря уж о «каждому по потребностям» в мире, где потребности определяются властью. Любой конструктивный проект, определенный в отрыве от остальной сущности и потому частичный, не принимающий во внимание тот факт, что он на самом деле определен от все приостанавливающего противного, становится реформистским. А это сродни попыткам строить на зыбучем песке вместо цемента. Игнорирование или непонимание контекста, установленного властью, может послужить только укреплению этого контекста. Те спонтанные действия против власти и ее спектакля, которые мы видим повсюду, надо вначале предупредить обо всех препятствиях на их пути и вооружить тактикой, которая учитывала бы силу врага и его способность к нахождению компромиссов. Эта тактика, которую мы собираемся популяризовать, называется detournement (у ситуационистов термин, обозначающий некую абстрактную девиацию от общепринятой нормы, иначе — похищение, кражу).
20Принесение жертвы должно быть вознаграждено. В обмен на их настоящую жертву рабочие получают инструменты освобождения (составляющие комфорта, различные технические приспособления), но это освобождение остается чистой фикцией, поскольку власть контролирует те способы, которыми можно использовать этот материал. Иначе говоря, власть использует себе на руку как инструменты, так и тех, кто ими орудует. Христианская и буржуазная революции демократизировали мифическое жертвоприношение, «принесение хозяина в жертву». Сегодня бесчисленные посвященные получают крохи со стола власти за то, что обращают на службу общественности свои фрагментарные знания во всей полноте общности. Они больше не «посвященные» и пока не «жрецы Логоса»; они просто специалисты.
На уровне спектакля силу их отрицать невозможно: и участник шоу «Кто хочет стать миллионером», и почтовый чинуша, болтающий весь день про особенности своей машины, отождествляются со специалистом, и мы знаем, как производственные менеджеры используют такую самоидентификацию, для того чтобы заставить неквалифицированных рабочих ходить по струнке. Истинной миссией технократов было бы объединение Логоса, если бы они не были так безнадежно и абсурдно изолированы и разведены по своим отделам жизни. Любой специалист отчуждается, если не совпадает по фазе с остальными; каждый знает что-то о частности и ничего — о целом. Физик-атомщик, стратег, политик — кто из них имеет реальный контроль над ядерным оружием? Как может власть льстить себя надеждами проконтролировать всякую направленную против нее манифестацию? Ведь сцена настолько перегружена актерами, что единственным постановщиком спектакля служит хаос, и «порядок правит, но не управляет» («Internationale Situationniste », №6).
В той степени, в какой специалист участвует в развитии инструментов, формирующих и преобразовывающих мир, он подготавливает дорогу для революции привилегированных. До настоящего времени такая революция называлась фашизмом. Практически это оперный переворот (разве не считал Ницше Вагнера своим предшественником?), в котором особенно бесправные актеры, долгое время прозябавшие в «кушать подано» и чувствовавшие, как постепенно теряют свободу, внезапно начинают исполнять ведущие роли. Говоря языком медицины, то фашизм — истерия мира спектакля, доведенная до точки климактического разрешения. В такой кульминационной точке спектакль мгновенно обретает целостность и раскрывается во всей своей абсолютной нечеловечности. Через фашизм и сталинизм, которые суть его романтические кризисы, спектакль открывает свою истинную природу: это болезнь.
Мы отравлены спектаклем. Все элементы, необходимые для успешной нейтрализации токсинов (то есть для того, чтобы мы сами взяли в свои руки процесс построения наших ежедневных жизней), находятся в руках специалистов. Поэтому мы в высшей степени заинтересованы в них, но все по-разному. Некоторые случаи безнадежны: например, мы не будем демонстрировать специалистам от власти, правителям, насколько глубоко они зашли в своей горячке. С другой стороны, мы готовы принять в расчет горечь тех специалистов, которые заключены в тесных, постыдных, абсурдных ролях. Должны признаться, впрочем, что наше снисхождение не беспредельно. Ведь бывает так, что, несмотря на все наши усилия, они упорствуют в том, чтобы употреблять свою нечистую совесть и свою горечь на службе власти путем фабрикации системы условий, которая колонизирует их же собственную каждодневную жизнь; что они предпочитают лишь видимость своего представительства в иерархии причастных к настоящей власти; что они настаивают на том, чтобы всюду рекламировать свои специализации (свои картины, свои романы, свои уравнения, свою социометрию, свой психоанализ, свою баллистику); что они, в конце концов, отлично зная (а вскоре и незнание этого факта уже не будет служить оправданием), что только власть и СИ владеют ключом к использованию их специализации, тем не менее, по-прежнему предпочитают служить власти (ибо власть, разжиревшая на их инерции, выбрала их, чтобы служили ей, чтобы получить все, что они могут дать, а затем трахнуть их!). У нашей щедрости есть предел. Они должны понимать все это, а в особенности то, что бунт актеров, отлученных от власти, таким образом, связан с бунтом против спектакля (см. ниже тезис о СИ и власти).
21
Общее пренебрежение люмпен-пролетариатом выросло из того его использования, какое ему было найдено буржуазией, которой он служил одновременно и как регулирующий механизм, и как источник рекрутирования для более двусмысленных сил порядка (полиции, информаторов, наемных убийц, художников...) Тем не менее, люмпен-пролетариат воплощает потрясающе радикальную скрытую критику рабочего общества. В его открытом презрении как к лакеям, так и к хозяевам содержится хорошая критика работы как отчуждения, критика, которая не принималась в учет до сегодняшнего дня не только потому, что люмпен-пролетариат был неоднозначным сектором, но также и потому, что на протяжении XIX и начала XX века борьба против естественного отчуждения и производства благосостояния по-прежнему выступала как необходимое и достаточное оправдание работы. Как только стало ясно, что избыток потребительских товаров не что иное, как оборотная сторона отчуждения в производстве, люмпен-пролетариат приобрел новое измерение: он исполнился презрения к организованной работе. Она в эру Государства, предоставляющего пособие по безработице, приобретает такие масштабы, что их неадекватность по-прежнему отказываются признавать только правители. Вместо постоянных попыток власти свести к компромиссу каждый эксперимент, ставившийся в каждодневной жизни, то есть каждая попытка превзойти такой эксперимент (а ведь эта деятельность была нелегальной со времен разрушения феодальной власти, когда она была сужена до тонкой прослойки правящего меньшинства), ныне конкретизируется в критике отчуждающей работы и отказе предоставить принуждаемый труд. Это тем более верно, потому что новый пролетариат может быть абстрактно определен как «Фронт Против Принудительного Труда»: фронт этот объединяет вместе всех, кто сопротивляется ассимиляции властью. Это наше поле действия, арена, где мы с помощью уловок истории ставим на кон против уловок власти, поддерживая рабочего (будь то металлург или художник), который — сознательно или нет — принимает работу под диктатом власти. В этой перспективе не лишена основания попытка предугадать переходный период, во время которого автоматизация и воля нового пролетариата оставят работу исключительно специалисту, низведя менеджеров и бюрократов до уровня временных рабов. С расширением автоматизации «рабочие», вместо управляющих ими машин, смогут посвятить свое внимание присмотру за специалистами по кибернетике, чьей единственной задачей будет увеличение продукции, которая через искажение перспективы перестанет быть приоритетным сектором и станет вместо этого служить примату жизни над выживанием.