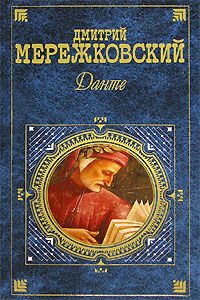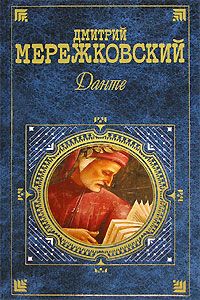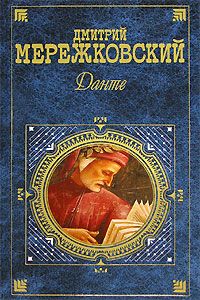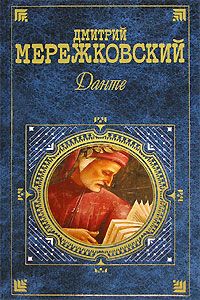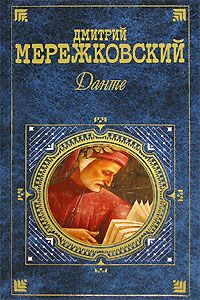Дмитрий Мережковский - Жизнь и творчество Дмитрия Мережковского
Если Достоевский думал о втором пришествии, — пишет г-н Мережковский, — то все-таки он больше думал о первом, чем о втором; больше думал о царстве Сына, чем о царстве Духа; больше верил в Того, кто был и есть, чем в Того, кто был, есть и будет; то, что люди уже «вместили», заслоняло для Достоевского то, что они еще «теперь не могут вместить».[23]
Почему же сам-то Достоевский не «вместил» окончательной истины? Потому ли, что мысль его была недостаточно смела и последовательна? Или потому, что сердце его было слабо, не совсем еще освободилось от соблазнов антихристовых? Или же, наконец, он просто боялся соблазнить «малых сих», не способных еще вместить откровение Духа? Мережковский указывает и на ту, и на другую, и на третью причину, но не видит, или не хочет видеть, что Достоевский вполне сознательно отвергал «последнюю гармонию», хотя, конечно, в то же время жестоко мучился тем, что не может принять ее.
Каким-то довременным назначением, — рассказывает черт Ивану Карамазову, — я определен «отрицать», между тем, я искренно добр и к отрицанию совсем не способен. Нет, ступай отрицать… Без критики будет одна «осанна». Но для жизни мало одной «осанны»… Если бы на земле было все благоразумно, то ничего бы и не произошло. Без тебя не будет никаких происшествий, а надо, чтобы были происшествия. Вот и служу, скрепя сердце, чтобы были происшествия… Страдание-то и есть жизнь. Без страдания какое бы было в ней удовольствие; все обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато.
Итак «осанна», «бесконечный молебен» тысячелетнего царства — в основе своей та же тоска безысходного «благоразумия», как и вавилонская башня: спору нет, «оно свято», но «скучновато». Правда, это говорит не сам Достоевский, а только Карамазовский черт, воплощение «самых глупых и пошлых» мыслей Ивана Карамазова. Но недаром же эти «пошлые» и «глупые» мысли так назойливо лезут в голову Ивана Карамазова в самый критический момент его жизни, недаром они так мучат и сверлят его душу, недаром он ничего не в состоянии им противопоставить, кроме ругательств!
Даже г-н Мережковский, столь плененный красотою «осанны», чувствует, что тут не одна только пошлость. Он цитирует следующую, еще более характерную тираду черта:
Я был при том, когда умершее на кресте Слово восходило на небеса, неся на персях своих душу одесную распятого разбойника, я слышал радостные взвизги херувимов, поющих и вопиющих «осанна», и громовой вопль восторга серафимов, от которого потряслось небо и все мироздание. И вот, клянусь всем, что есть на свете, я хотел примкнуть к хору и крикнуть со всеми «осанна». Уже слетало, уже рвалось из груди…
Но здравый смысл, — о, самое несчастное свойство моей природы, — удержал меня и тут в должных границах, и я пропустил мгновение! Ибо что же, подумал я в эту минуту, что же бы вышло после моей-то «осанны»? Тотчас бы угасло все на свете и не стало бы случаться никаких происшествий. И вот единственно по долгу службы и по социальному моему положению я должен был задавить в себе хороший порыв и остаться при пакостях…
Я ведь знаю, тут есть секрет, но секрет мне ни за что не хотят открыть, потому что я, пожалуй, тогда, догадавшись в чем дело, рявкну «осанну», и тотчас исчезнет необходимый минус, и начнется во всем мире благоразумие, а с ним, разумеется, и конец всему… Но пока это не произойдет, — пока не открыт секрет, для меня существуют две правды, одна тамошняя, ихняя, мне пока совсем неизвестная, а другая моя. И еще неизвестно, которая будет почище…
Г-н Мережковский находит, что под «кажущейся» пошлостью, под «прозрачной корой пошлости и насмешки мысль углубляется здесь до нуменальной бездны».
Сам «великий умный Дух пустыни», светоносящий, мог ли бы сказать Ивану что-либо страшнее, неожиданнее, чем эти слова о двух существующих, вечно соединяемых и несоединимых правдах?..
От соприкосновения, столкновения «двух правд» родился огонь, раскаливший горнило сомнения, через которое прошла «осанна» и самого Достоевского.[24]
В том-то и дело, что «осанна» самого Достоевского не «прошла сквозь» горнило двух правд, а безвозвратно сгорела в этом горниле.
До сих пор мы имели дело лишь с чертом, духом лжи и небытия. Послушаем теперь, что говорит о райском блаженстве и адских мучениях старец Зосима, один из тех одиноких праведников, которыми, по словам Достоевского, держится мир.
Отцы и учители, мыслю: «что есть ад?» Рассуждаю так: страдание о том, что нельзя уже более любить. Раз в бесконечном бытии, не измеримом ни временем, ни пространством, дана была некоему духовному существу, появлением его на земле, способность сказать себе: «я есмь и люблю». Раз, только раз, дано было ему мгновение любви деятельной, живой, а для того дана была земная жизнь, а с нею времена и сроки, и что же: отвергло сие счастливое существо дар бесценный, не оценило, ни возлюбило его, взглянуло насмешливо и осталось бесчувственным. Таковой, уже отошедший от земли, видит и лоно Авраамово, и беседует с Авраамом как в притче о богатом и Лазаре нам указано, и рай созерцает, и к Господу восходить может, но именно тем-то и мучается, что к Господу взойдет он, не любивший, соприкоснется с любившими, любовью их пренебрегший. Ибо зрит ясно и говорит себе уже сам: «ныне уже и знание имею и, хоть возжаждал любить, но уже подвига не будет в любви моей, не будет и жертвы, ибо кончена жизнь земная и не придет Авраам хоть каплею воды живой (т. е. вновь даром земной жизни, прежней и деятельной) прохладить пламень жажды любви духовной, которою пламенем теперь, на земле ею пренебрегши: нет уже жизни, и времени больше не будет».
Итак, деятельная, живая любовь возможна только в этой, земной жизни, со всеми ее противоречиями. В лоне Авраамовом никакая деятельность уже не мыслима, там нет уже времени, т. е. не совершается никаких событий, никаких «происшествий», нет, следовательно, ни любви, ни жизни. Как видим, Зосима, а его устами и сам Достоевский, говорит то же самое, что и карамазовский черт.
Г-н Мережковский лелеет надежду — «такую новую, такую робкую»,[25] — что с наступлением апофеоза и черт будет прощен, т. е. «рявкнет» в конце концов свою осанну, позабыв о жизненной необходимости «минуса». Зосима — Достоевский утверждает, что никогда не прейдет царство сатаны:
О, есть и во аде пребывшие гордыми и свирепыми, несмотря уже на знание бесспорное и на созерцание правды неотразимой, есть страшные, приобщившиеся сатане и гордому духу его всецело… ненасытимы во веки веков и прощение отвергают, Бога, зовущего их, проклинают… и будут гореть в огне гнева своего вечно, жаждать смерти и небытия. Но не получат смерти.
Не дух ветхозаветной «справедливости», ветхозаветной идеи о Божественном возмездии сказывается в этом признании вечного ада. Бог и после кончины мира не перестает «звать» к себе грешников, проклинающих Его, — они сами не идут в рай. Адское самоистязание грешников необходимо в системе грядущего миропорядка, как тот «минус», без которого вечный «живот» праведников превратился бы в пустоту вечного небытия.
При внезапном прекращении какой-нибудь острой мучительной боли самое это прекращение, самое «небытие» боли ощущается на момент как интенсивнейшее блаженство. Но, увы! — от этой мгновенной иллюзии блаженства через минуту не остается и следа, — и чтобы возродить ее, недостаточно простого воспоминания о былых муках, необходимо их новое реальное переживание. Страдания грешников — это тот вечно ноющий зуб, по контрасту с которым праведники только и могут воспринимать свое благополучное здравие как райское блаженство. Не будь вечного ада, рай был бы подобен блаженной секунде перед эпилептическим припадком, о которой Достоевский устами князя Мышкина говорит: «Да за этот момент можно отдать всю жизнь». Тотчас же за последним звуком последней трубы архангела — мгновение «неслыханного и негаданного дотоле чувства полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слияния с самым высшим синтезом жизни»…а затем вечный «трансцендентный» обморок, вневременной мрак «нуменальной» эпилепсии. Мережковский справедливо называет эпилепсию «вещей» болезнью, — но этого мало: эпилепсия не только «вещает» о грядущей гармонии, как ее таинственный символ, она сама есть точный дубликат этой гармонии.
Припомним исходный пункт учения г-на Мережковского: теперешняя жизнь сама по себе нелепа и ужасна, — только вера в апокалипсический «Конец» может придать ей смысл и значение. Оказывается, однако, что и конец сам по себе лишен всякого смысла и даже всякого содержания, что не он сообщает значение теперешней жизни, а наоборот, эта последняя, со всеми ее страданиями, нужна для того, чтобы придать абсолютному нулю конца некоторую видимость положительной величины. — Этот безвыходный, тусклый тупик, эта свидригайловская «баня с пауками» вместо той светозарной перспективы, которую рисуют наивные пророки конца à la г-н Мережковский, и лежит в основе известного «бунта» Достоевского — Карамазова. За последнее время очень много писалось о «слезинке замученного ребенка» и о невозможности «принять» наш земной мир с его бессмысленными страданиями и жестокостями. Но ведь «неприятие» Карамазова относится не только к этому, но и к будущему миру и даже к будущему-то в первую голову: