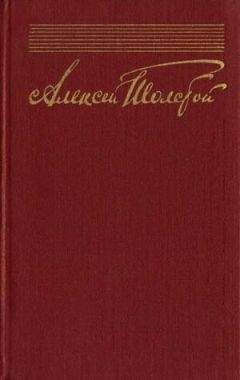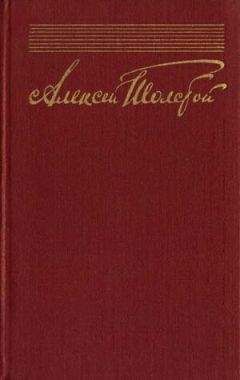Алексей Толстой - Том 10. Публицистика
А фраза русского языка — простая, короткая, энергичная. Чехов сказал: «Море было широкое»…
Только что я прочел очень неплохую книгу Лебеденко «Тяжелый дивизион». Но в ней, особенно вначале, поражают сложные нагромождения метафор. Например: «Ветви ивы вопросительным знаком висели над водой».
Когда я пишу: «Н. Н. шел по пыльной дороге», вы видите пыльную дорогу. Если я скажу. «Н. Н. шел по пыльной, как серый ковер, дороге», ваше воображение должно представить пыльную дорогу и на нее нагромоздить серый ковер. Представление на представлении. Не нужно так насиловать воображение читателя. С метафорами нужно обращаться осторожно. Никаких сравнений, кроме сравнений, усиливающих; например: «поверхность воды, блестящая, как зеркало». Для представления зеркала не нужно насиловать воображение. Это обыденность, это уже рефлекс. Метафора зеркала усиливает блеск, а если метафора является второй надстройкой, то это недопустимая вещь. Читатель не прощает насилия.
Вопрос. Вы говорите, что надо стремиться к простой речи, но ведь она может приесться. Язык надо улучшать и видоизменять.
Ответ. Я хочу сказать, что, вообще говоря, фраза с придаточными предложениями, канонический язык был перенесен искусственно с Запада. Язык должен быть живым, изменяющимся, растущим. Его надо освободить от наслоений, не свойственных простой русской речи, освободить от канонов, пришедших с Запада. Нужно овладеть простотой языка и затем играть ею как угодно. Но вначале — простота, точность, ясность, максимальное возбуждение читательской фантазии, а не насилование ее.
Вопрос. Современный русский язык имеет много напластований. Например, колхозник не говорит на народном языке, а на плохом газетном языке. Есть много интернациональных влияний. Как надо лепить литературный язык в связи со всеми этими влияниями?
Ответ. Можно ли написать роман тем языком, каким говорит колхозник? Я отвечу так: если вы будете хорошо владеть языком, знать его корни и основы и если вы заставите колхозника нарочно говорить так, чтобы чувствовалось, что он говорит дурным газетным языком, это хорошо, это искусство, но если написать роман газетным языком, наивно думать, что этим вы приближаетесь к правде. Колхозник растет и учится; может быть, он, а уж сын его, несомненно, будет говорить не газетным, а настоящим, хорошим языком. И он скажет вам: «Зачем вы учили нас дурному языку?»
Другое дело, если вы, скажем, пишете комедию и ваши персонажи говорят нарочно скверным языком. Такой комедией вы нанесете удар по тем, кто не желает расти вместе с ростом культуры. Ведь язык растет вместе с культурой.
Как говорит Сталин? Он говорит простым, одному ему присущим языком. У него нет ни одной штампованной фразы. Его речь построена на точнейшем выражении мысли. Она сжата, скупа и энергична.
Вопрос. Вы говорили, что глагол играет главную роль в языке. Чем же знаменито безглагольное стихотворение Фета «Шепот, робкое дыханье…»?
Ответ. Я эти стихи не люблю. Они сентиментальны. Это упаднические стихи. Глаголы пропущены. Их надо в своем воображении воссоздавать. Наше воображение подсказывает банальные глаголы. Если бы он назвал какой-нибудь глагол, необычайно точный, передающий шорох листьев, который бывает в июне перед грозой, если бы он употребил глагол, то запахло бы настоящей грозой.
Вопрос. Вы также говорили о запутанности некоторых фраз Толстого. Но у него ведь есть краткие фразы, в которых заключена большая мысль, например при описании бородинского сражения.
Ответ. Толстой — гениальный писатель. Он достигает такой высоты своим языком, что глазам больно, до чего вы ясно видите, но если Толстой пускается в философию, то получается уже хуже. Это подтверждает мою теорию: когда Толстой пишет как чистый художник, он видит вещи своими глазами. Он до галлюцинации видит движение, жесты и находит соответствующие слова. Когда он пишет об отвлеченных вещах, он не видит, а думает…
Вопрос. Как вы оцениваете язык Достоевского?
Ответ. У Достоевского язык очень прост. Он ведь в диалоге. У него были ошибки, но в лучших вещах он подходит к языку через жест. Вот Степан Трофимыч из «Бесов». Вы видите, как он говорит, как он двигается, как он остановился, как он развел руками. Это не написано. Это видно через жест. Вы видите людей, вы видите даже их цвет лица, потому что через каждую фразу сквозит жест. Достоевский видел людей, когда писал о них.
Я не хочу проповедовать короткие фразы, но фраза, идущая от жеста, не может быть длинной.
Однажды к Бальзаку пришел приятель, постучал в дверь и услышал, как Бальзак с кем-то бешено ссорится, кричит: «Мерзавец, я тебе покажу!» Приятель, открыв дверь, увидел, что Бальзак в комнате один. Бальзак кричал на одного из своих персонажей, которого изобличил в подлости. Бальзак галлюцинировал. Так каждому писателю нужно видеть до галлюцинации то, о чем он пишет. Это свойство в себе нужно развивать.
Вопрос. Почему вы перешли от стихов к прозе?
Ответ. Я начал писать стихи и никогда не предполагал, что буду писать прозу. Я много раз пробовал, но ничего не выходило. Это были пошлые, скучные рассказы. Многие из них я даже не закончил.
Прошло два года. Я почувствовал противоречие. Смешно сказать, но это истинная правда: я всегда был толстым, здоровым человеком, а стихи писал медленно. Мне стало казаться, что это мало почетное занятие: такому здоровому человеку полдня искать рифму. Это объясняется, конечно, тем, что у меня не было темперамента поэта. Я никогда не был поэтом. Я и сейчас пишу стихи служебные, например для оперы «Полина Анненкова».
Праздник идей, мыслей, образов
Незанимательный роман, незанимательная пьеса — это есть кладбище идей, мыслей и образов. Человек может провести шестой день отдыха у себя на диване, зевая от скуки, и он не будет возмущен — проскучал, потерял день — наверстаю. Но вы представляете себе, какая это леденящая вещь, почти равная уголовному преступлению, — минута скуки на сцене, или 50 страниц вязкой скуки в романе. Никогда, никакими силами вы не заставите читателя познавать мир через скуку. Искусство — это праздник идей, и таким его хочет видеть читатель и зритель. Есть жанры бесспорно занимательные, но эти жанры не для нас. Читатель торопится в таких книгах и пьесах скорее добраться до развязки, до «клубнички» и прочтенную книгу швыряет. Это уголовные — английские романы, бульварные французские романы, авантюрные романы.
Такая порочная занимательность достигается очень просто. Проанализируйте, как делается бульварный роман, который, начав читать, вы не можете бросить, пока не кончите, а потом, кончив, плюнете, бросите и считаете время потерянным даром.
Занимательность, нужная нам, — это тропинка.
Занимательность — прежде всего внутреннее движение, борьба противоречий и вытекающее отсюда видоизменение движения.
Скажем, нельзя писать портрет героя на целых десяти страницах, дать его облик, его рост, сказать, какой он из себя, и потом пускай этот герой начнет действовать. Это — неправильный метод. Это не занимательно, не сценично, потому что стоит на месте. Это статика. Портрет героя должен проявиться из самого движения, борьбы, в столкновениях, в поведении. Портрет возникает из строчек, между строчками, между словами, возникает постепенно, и читатель уже сам представляет его себе без всякого описания, потому что, если вы на первой странице прочли портрет героя, то вы его забыли, и вы будете все время справляться, каков он — коричневый или рыжий.
Стало быть, в художественном произведении все должно меняться. Здесь все сжато, и отсюда вытекает особенность сценического времени. Сценическое время является стимулом движения, и это и есть сценичность.
Художественное произведение должно вырастать вместе с ростом самого художника, творящего это произведение. Что это значит? Это значит, что писатель рисует каких-то персонажей, дает им слова, действие, столкновения. Эти персонажи начинают жить. Они начинают жить самостоятельной жизнью, настолько, что часто они уже тащат за собой и самого творца — писателя. «Черт возьми, ведь по плану должно быть так, а ведь вот как получается». И вот это очень хорошо, это значит, что художественное произведение стало настоящим, оно налилось соками, жизнью, кровью. Тут и получается настоящая занимательность. Я в самом разгаре работы не знаю, что скажет герой через пять минут, я слежу за ним с удивлением.
Возьмите письма Флобера. Они вышли в Госиздате отдельной книгой. Это совершенное, замечательное художественное произведение, целый роман, это интереснее всякого романа, потому что там вырастает человек. Вы видите его 10-летним, 35-летним, весь его путь, все строение. Он писал «Мадам Бовари» и не знал, что там будет, он сам гадал, повернется ли его бабенка так или этак. Роман был полон неожиданностью.