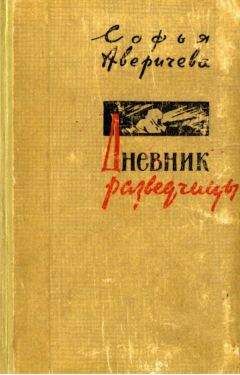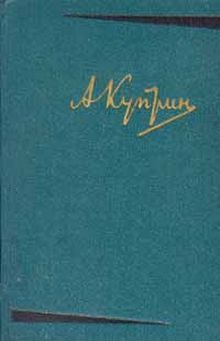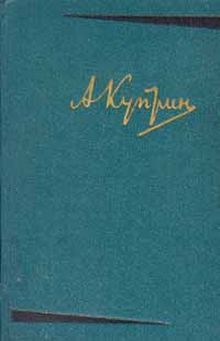Софья Федорченко - Народ на войне
В очень хорошую квартиру нас привели, и велел он нас развязать. Теперь беда, думаем, что-то такое готовят небывалое! Еще и вежливый такой. Ждем. Вежливо все спросил, что положено: имена, откуда,— все записал. Потом велел конвойным уйти, сидит, молчит, на нас глядит, и не сердито. Ох, беда, думаем. И вдруг он нам тихо: «Оба вы сидите тихо вон там в углу, ждите. Ночью я вас возьму отсюда — и ведите меня на волю, дожился я здесь выше всякой меры».
Да, бывали чудеса! Я раз, охмелевши, к чужой подушке прилип, и сплю, и сплю, бери меня в плен голыми руками! И ничего. Ни белые не прибыли, ни хозяева не убили. Вот так-то и живем.
Этот болтался от них к нам, от нас к ним. Раз пять в плену побывал,— слаб, думаем, не увертлив, попадается. И вот раз узнали мы его на самом его деле. Захватили нас беляки, в сарай сунули, а на страже у дверей — Прокошка! Свой вроде, родня им, га-га-га с псами этими! И чуба отрастил! И одет чисто! Шепчет мне дядя Петр: пусть убьюсь на этом деле, а ему жить не дам! Да как вскочит, да на Прокошку! Тот верезжит, все ополумели, рук-ног не разберут. Пока опомянулись, мы мимо них на волю, Прокошку в дверях им падалью оставили.
Плен душу портит — вот всего хуже. Как-то и себе не веришь, как-то вроде и делать тебе нечего, как-то тебе все ни к чему, как-то тебе по своим товарищам смертельная тоска.
Из плена у них только чудом уходят. А я не так! Меня беляки в сарае забыли, очень уж спешили нашим перинки уступить.
Ночь месячная, все видно. Где мы заперты, и то все видать. Солома наворочена, из нее босые мертвые ноги торчат, в углу кто-то убитый искрутился на земле, а над головой двое удавленных под ветром на веревках колышутся. И всего этого распорядители какие-то, пацаны-недоростки, рядом в избе под граммофон визжат и гогочут.
Не знаю, как считать этот плен. То ли винен я в нем сам, судить же меня как будто и не за что, а сам себя сужу. Кабы еще обе ноги были прострелены, а то одна-то оставалась?
Перебили ястребу крыло, так он на одном улететь рвался, до самой смерти бился! Так вот и надо.
Э, нет. Не согласен я так. Куда для дела лучше выжить живым да поискать со сноровкой, со смекалкой случая, смести с пути своего белый сор да к товарищам вернуться. Помереть-то и ворона может, а ястреб, он за жизнь бьется.
Он меня на себя тянет, а я его на себя тяну. Оба раненые, оба голодные, оба голые. Шипим друг на друга как гуси. «Сукин ты сын,— говорю,— своего же бедолагу-крестьянина к белякам в плен тянешь!» Ослаб он, и я тоже. Я его до нас привел,— вон он там зубы скалит.
Я в плен не дамся ни за какие силы. Пусть убьют, а с ними я соседствовать только в бою согласен.
Все-то он в этих местах крутился, все в этих местах. Люди с боя рады спать до одури, а он глаз не заведет.
Где-то тут поблизу женка его молоденькая осталася. И бродит, и бродит, и бродит, и до плену добродился.
Старики говорили: плен смерти страшней, мордуют и мордуют, на своих посылают, и стыд ест днем и ночью без всякой остановки.
Я в плену изокрался весь. Как где снедь, не могу себя удержать, у малого ребятенка украду,— оголодал до потери совести.
Часть третья. С ЦЕПИ СОРВАВШИЕСЯ
VIII. БАНДИТЫ
Мне тогда превыше всего воля вольная показалася. Какого это черта волом на немца пахать, да еще и землю свою, не чужую. Ушел я в бандиты.
Будто и до нас идут немцы,— не ждать же. Спалили добро и в лес. К ночи надошли в лес какие-то, собрали мужиков помоложе и увели. Шли охотно, чего беречь-то.
С фронта денег привез, лошадь хорошую. Тут не знай что сталося. А тут немцы в хату. Я до соседа, у того в хате немец. Сосед на коня, я на кобылу, да так второй год пройдисвитами и летаем.
«За тии гроши,— кричит,— я со всем семейством жилы свои тяг, не быть же тому, чтобы казать вам где, лучше я языка лишуся!» Вот ему язык и вырвали.
«Чей ты?» — «Крестьянин».— «Богатый?» — «Голый я».— «На же тебе,— говорит,— голый, кошель и обрез, ступай с нами в лес. Каким хочешь богам молися, только одного не забывай: голоты не обижай. Вся на свете голота одного рода. Что красная, что белая, что робкая, что смелая».
У нас из господ ходил в бандитах. Зверей всех. Особенно в городах баловал, по рынкам, по лавочкам, по еврейским семействам. Тут мы атамана сменили, тут ему допрос: «С чего и для каких причин так зверствуешь?» — «Чтобы грому на все Европы наделать, аж до Америки»,— говорит.
Дополз я до опушки, и лесу-то всего на три поползня. А у самой опушки четверо как бы спят. Один к другому как бы щекой приникли, не по-мужескому. И ни движка, ни дышка! Я к ним,— костер заглушённый, в золе восьмеро ног обгорелых, разутых, связанных пристроено. Чья ж это штука?
Мы больше топили врага, болото кругом, «белая русь» звалася. Тоже русский народ, да мелок и бел — от голоду и вечной обиды. А леса, а болота, а ни пашни просто. Одно слово — царю охота, мужику болото. Царь там для охоты всё зверям скармливал, народ же тощал с голоду.
Визгу я бабьего смерть не люблю. Настращаешь для вещей каких-нибудь, неважных, неособенных,— так не хуже свиньи резаной баба заверезжит. Бросишь и ее и полушубок ейный.
Я подошел. «Давайте узел,— говорю,— помогу». Она мне узел еще и через плечо подала. Встряхнул я узел спиною, оттянуло аж до пояса. И твердо так давит. Думаю: «Никак, сапоги», а разве спиной прощупаешь? Ну, долго ли, коротко ли, сшиб я старушечку в неглубокую канавку. Сам сел на обочине, босые мои ножки ажио ноют по сапогам. Раскинул я узел, тряпки да шляпки. И одна твердыня в мякоти — труба самоварная! Ну, что ты с такой старушкой сделать должен?
Оттого мы баб одариваем, что и бандитам отдых нужен. Ну уж сама себя береги после нас, мы-то этим бабам цену знали. Пока нужна — по шею в баловстве держим: наряды, пить-есть и золотые вещи даже. А уходить соберемся — вида не подадим, чтобы не продала. Пусть уж сама как знает потом изворачивается.
Толстый, важный, усы в нос лезут, «Не кончилась,— говорит,— война. Увезу вас в Киев с большевиками воевать». Повезли, а мы с железной дороги да на лесные тропочки.
Дома я только печку облеживал, ажно бока залоснились, до того я весь извоевался. А тут ни тебе покою, ни тебе печки. Пошел в бандиты.
Как посидели мы в бандитах и месяц, и год, стали на людей непохожие, обросли, дикого виду. С мохнатинкой и зверинка обуяла.
Сошлись мы с одной улицы, идем купно и песни спеваем. Тут вышли к нам из кустов. «Куда вы, молодые ребята?» — спрашивают. «Работу искать, головы рубать».— «А кому вы головы рубать собираетесь и есть ли у вас рубила?» — «Головы рубать будем заносчивые, а рубила от вас дожидаемся».— «Идите ж,— ответ нам,— до нас, и будет вам рубня и рубила».
Вышел он за нуждой, ворочается смертного цвета. Чего такое? Из колодца, говорит, черти лезут. Тьфу ты, взяли сору, тряпья в мешок, мешок на цепь, подпалили да и опустили в колодезь. И завопили в колодце черти. Высунется который — дрючком его. Замолчали невдолге. Мы слазили, сбочку выемка, пища, амуниция. А люди на дне. Испортился колодезь.
Уж какой я смелый, а как рыл я свою могилу — не идет заступ ни на нос комариный! Круть заступ в руках, верть — словно проволока. А сзади для скорости прикладом меня.
Семейство такое чистенькое, мать да дочка-барышня, вроде как бы машинистка или учительница. Голодная, а к руке не идет — крепится. Вваливается он, аж дымит самогоном, да к барышне: «Айда в баню!» Волочет. Мать лбом по полу, молит, зашлась вся. Барышня молчки не дается. «Не пойдешь,— говорит,— мать каблуком раздавлю».
Ты до войны в школе учился, на войне книги читал, с товарищами рассуждал. Я же деревенский, одна у меня учеба — земля. Теперь кругом добра всякого понакидано, кто мне его добудет, ты? То-то... С дисциплиной укладки не набьешь.
Шутка ли, чужое добро поровну деля, себя за троих счесть! До чего же умен! Удивляюсь, как тебя в главковерхи не выбрали.
Я на вещи не обижался. Делят, обделят, еще случай будет — мое не уйдет. Абы мне весело.
Я добрей всех был, молодой, не обижался, вещей не брал, кроме часов. Часы я любил.
Были отряды честные, служебные; были и грабители. Эти различья не делали, где много, где мало. Им бы взять, а у кого — меж собой жители разберутся.
Квартира — дворец. Мягкости, недотрожки, картинки, перинки. У меня мамка, бывало, над глечиком[105] плачет-разливается: разбить — не купить. Я и перебил им все. «Прирыкайте»,— говорю.
А в укладочке в одной серебряного на роту, а в укладочке другой белья на больницу. И всё на одно кубло[106] семейное, а еще люди. Ночью стук — что такое? Старая самая у укладочки, здравствуйте! «Не отдам!» Да иди ты к ляду, спать людям, а не казни казнить. Не послушалась, до чего к укладочкам привыкла. Пропала за укладочки, а может, ей бы еще с полгодика прожить.