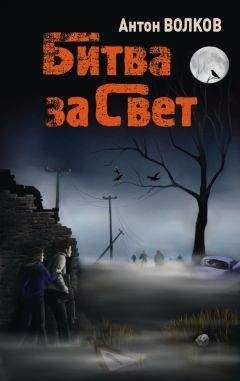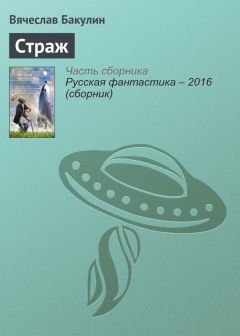Сергей Кремлев - Россия и Германия: Вместе или порознь? СССР Сталина и рейх Гитлера
Молчание, а потом:
— Вам что, плохо здесь?
— Не плохо. Да в деревне родители больные, помочь надо.
— А если мы ваших родителей в Москву выпишем, поможем?
И растерялся солдат. Других поводов не заготовил и растерялся. А Сталин улыбнулся и спрашивает:
— Что, ничего больше не придумал? Зачем врать-то? Домой хочется?
— Домой…
— Так бы сразу и сказал. А врать — не надо. Ну раз так, ладно.
И пошел по коридору.
А солдат?
Солдат уехал домой.
Правозащитники, правда, возопят: «Вот оно, самодурство! Хочу — окажу барскую милость, а закон ему был не писан». Да что нам, читатель, правозащитники? У них вместо сердца — «права человека».
А вот солдату без сердца нельзя, и Сталин до конца занимал в нем место немалое. Не оттого, что домой отпустил, а оттого, что не в тот момент, а задолго до него убедился солдат: этот человек строг, но он — добрый. Правда, только для тех, с кем можно быть добрым, для тех, у кого совесть чиста. Не перед Сталиным, а перед Родиной.
Редко рассказывал солдат о своей «сталинской» службе даже близким друзьям, а чаще просто говорил: «Эх, не знаете вы, что это был за человек!»…
КАЖЕТСЯ, арабы говорят: «Извинение хуже проступка».
Да, бывает, что и страстная защита Сталина порой чуть ли не вреднее самой подлой хулы на него.
Доктор исторических наук Жухрай написал книгу «Сталин: правда и ложь». Жухрай за Сталина — горой. Но вот приводит он данные по танкам Германии и СССР к июню 1941 года: у немцев 3712, у нас, мол, 1800. Вывод ясен: немцы имели-де подавляющее преимущество. А ведь чепуху написал Жухрай, и так «подставляясь», он подрывает у внимательного читателя веру в свою правоту вообще.
Ведь в действительности у Красной Армии тогда насчитывалось одних KB и Т-34 ни много ни мало 1861 (636 и 1225 соответственно).
И это были только новейшие машины. Такие, что поражали основные немецкие танки с полутора тысяч метров в лоб, а те доставали KB и «тридцатьчетверки» лишь с пятисот метров, да и то в борт или корму.
Вообще же танков у нас было примерно (то ли более, то ли менее) десяти тысяч. Другое дело, что многочисленные, устаревающие (но не так уж и уступающие большей части танков вермахта) наши легкие Т-37А, Т-38, Т-26, БТ-5 и 7, Т-28 нуждались в среднем и капитальном ремонте. Да и не лучшим образом эксплуатировались, не лучшим образом осваивались в войсках.
Эти танки в начале реальной войны 1941 года очень нам помогли, однако распорядиться ими в полной мере мы тогда не сумели…
Но причем здесь Сталин? Его делом перед войной было создать в России такую индустрию, чтобы у Красной Армии были эти танки.
Он это вместе с народом и сделал.
А то, что танки не лучшим образом использовали — это вина военных.
Вина заместителя наркома обороны, начальника вооружений РККА Тухачевского, бездарно проводившего политику государственного оборонного заказа как раз тогда, когда все эти Т-37А, Т-38, Т-26, БТ-5 и 7, Т-28 и прочие разрабатывались. Вина руководства Наркомата обороны, Управлений РККА и вина командующих особыми приграничными военными округами.
Не забудем и о вине Генерального Штаба РККА и его начальников… Маршала Егорова… Маршала Шапошникова (Борис Михайлович был хорошим теоретиком, но жизни требовались такие концепции, которые стали бы руководством для практических дел по строительству армии, а он их дать не смог)… Генералов Мерецкова и Жукова, не сумевших переломить оторванность Генштаба от потребностей войск…
Знаменитого командарма Первой конной армии в гражданскую войну Семена Михайловича Буденного все считают противником танков и приверженцем конницы. А вот что он говорил в декабре 1940 года на совещании высшего руководящего состава РККА: «Дебаты с точки зрения применения подвижных родов войск как в тактике, так и в оперативном искусстве новых и уже массированных родов войск — танков, авиации и мотопехоты — всегда упирались в однобокость. Рассуждали абстрактно»…
Маршал Буденный был, конечно, прав… Не Сталин, а великие «военные теоретики» все 1930-е годы выдвигали «блестящие» общие доктрины, но постоянно путались в редком леске из трех сосен конкретного дела…
А Буденный-то танки, напротив — защищал. Весьма последовательно и весьма конкретно, заявляя:
«Оперативная мысль о применении танков гнездилась в армии в свое время таким образом, что танки могут действовать в оперативном масштабе без всякой поддержки конницы, мотопехоты и вообще пехоты.
Потом пришли опять к другому заключению, что танки не могут действовать самостоятельно… И вот последовал Хасан (неудачные бои у дальневосточного озера Хасан с японцами. — С.К.). Мы в танках там понесли лишние потери и поэтому некоторые сделали выводы, что танки сейчас отжили свой век. Танки, конечно, в горах действовать успешно не могут.
На финском театре (там, к слову, „ловил“ не столько финских снайперов-„кукушек“, сколько „ворон“ будущий начальник Генштаба Мерецков. — С.К.) так же, не зная условий театра, применяли танки неудачно.
После этого вновь раздаются голоса, что танки не оправдали надежд. Так огульно подходить к оценке родов войск и к их использованию было бы неправильно…
Решение сейчас вопросов, связанных с организацией наступательной операции… использование танковых соединений играет исключительно огромную роль для нашей армии»…
Вот как оценивал значение танков маршал-«конник». А «теоретики» шарахались то к ним, то как видим, от них. Мог ли тогда Сталин найти время, чтобы разобраться еще и в том, в чем должны были разбираться профессионалы военной науки? Сталин-то был не бог… Для крыльев — хотя бы ангельских — френч у него на спине прорезей не имел.
Вернемся еще раз к книге Жухрая, где он пишет о «фальшивках» антисталинистов, расписывающих ужасы чудовищного голода на Украине в начале 1930-х годов.
Но голод-то был.
Страшный.
Тот, в котором чудом уцелела моя бабушка с тремя дочерьми-малолетками, среди которых была и моя мать.
Никто из них Сталина потом не винил. Голод пришел вслед за жестокой засухой, а усугубили его предки нынешних «прорабов перестройки».
Вот описание с натуры ситуации в Днепропетровске 1935 года, сделанное одним из участников Всесоюзной физико-химической конференции, впоследствии крупнейшим советским физиком Сергеем Фришем: «Неприятное впечатление произвело торжественное общее собрание, на котором выступил секретарь обкома партии Хатаевич. Это был еврей, небольшого роста, широкоплечий, с очень грубыми чертами лица. Местное начальство, рангом пониже, окружало его с подобострастным и угодническим видом. Все, встав, начали аплодировать. Кто-то крикнул: „Наш великий Хатаевич! Ура!“. Сцена выглядела совершенно карикатурно. Через год или два я прочел в газете, что его расстреляли».
Да, в начале 1930-х эти хатаевичи чувствовали себя хозяевами украинских городов и были жестоки к украинскому селу в силу извечной своей черствости, бездушности и презрения к хлеборобу.
Сталин же если и был жёсток (а не жесток), то в силу суровой исторической необходимости.
15 января 1928 года его поезд на три недели отправился в Сибирь.
Новосибирск, Барнаул, Рубцовск, Омск…
Разговоры выявляли картину невеселую: сельскохозяйственная проблема заходила в тупик. В 1926/27 году СССР вывез 2 миллиона 178 тысяч тонн зерна, а через год — только 344 тысячи, и 248 тысяч даже пришлось ввезти. Причина была не в неурожаях, а в том, что село не хотело отдавать зерно «задешево». Кулаки просто саботировали поставки и выжидали повышения рыночных цен втрое (!). Хлебом было выгоднее спекулировать.
Еще пятнадцать лет назад на среднего жителя Российской империи приходилась в день одна чайная ложечка сахара. Одна чайная, читатель! Крестьянин же сахара не видел вовсе — ни на столе, ни в жизни. В докладе Пятому съезду уполномоченных объединенных дворянских обществ 1909 года его автор В. Гурко писал: «Вывоз хлеба происходит не от достатка, а от нужды, происходит за счет питания населения. Наш народ, как известно, вынужденный вегетарианец, то есть мяса почти никогда не видит».
Советская власть дала мужику землю и сытость (во второй половине 1920-х годов при восстановлении дореволюционного производства зерна его вывозилось в 4–5 раз меньше, чем раньше).
В наследство же от столетий царизма остался у села кругозор не дальше воробьиного носа. Заканчивалась первая треть XX века, а психология крестьянина недалеко ушла от века этак восемнадцатого. В обстановке тех лет такой разрыв между сознанием крестьянской массы и реальностью государственной жизни грозил уже не отсталостью, а гибелью страны. Она просто не смогла бы ни развиваться, ни защищаться.