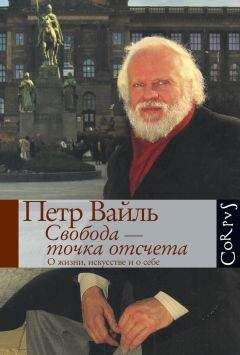Марина Цветаева - Рецензии на произведения Марины Цветаевой
Я имел некоторое право на это. Во-первых — я не присяжный критик, — а потому могу говорить все, что думаю, не справляясь о моде. Во-вторых, я действительно понял очень мало (критики Марины Цветаевой обыкновенно говорят: «Передать содержание ее поэмы трудность непреодолимая»[338]). В-третьих, я действительно ощутил почти физически то издевательство, о котором писал.
Да будет позволено мне рассказать, при каких обстоятельствах это было. Я был ночью в карауле на охране наших знамен. На кладбище было тихо; в караульном помещении потрескивала печь, было светло. В полном одиночестве, в полной тишине, были слышны не только отдаленные шаги, но даже шорохи. И, когда, после обхода вокруг церкви, я убедился, что все спокойно и тихо, я вошел в караулку и мне захотелось, в этой тиши и одиночестве, прочесть хорошую русскую книгу.
Я вынул из кармана хорошую русскую книгу — и стал читать.
Там было написано:
Небо дурных предвестий:
Ржавь и жесть.
Ждал на обычном месте.
Время: шесть.
Сей поцелуй без звука:
Губ столбняк.
Так — государыням руку,
Мертвым — так…
……………………………….
Заблудшего баловня
Вопль: долой!
Дитя годовалое:
«Дай» и «мой».
……………………………….
Серебряной зазубинкой
В окне — звезда мальтийская!
Наласкано, налюблено,
А главное — натискано!
Нащипано… (Вчерашняя
Снедь — не взыщи: с душком!)
…Коммерческими шашнями
И бальным порошком.
……………………………….
Назад? Наготою грубой
Дразня и слепя до слез —
Сплошным золотым прелюбы
Смеющимся пролилось.
………………………………..
Справляли заутреню.
Базаром и збкисью
Сквозь — сном и весной…
Здесь кофе был пакостный, —
Совсем овсяной!
(Овсом своенравие
Гасить в рысаках!)
Отнюдь не Аравией —
Аркадией пах
Тот кофе…
……………………………
Разом проигрывать —
Чище нет!
Загород, пригород:
Дням конец.
Негам (читай — камням),
Дням, и домам, и нам.
Может быть, если бы это было лет пятнадцать тому назад, когда еще не было ни войны, ни революции, когда наиболее радикальное казалось мне наиболее совершенным, когда можно было после хорошего обеда почитать и помечтать за рюмкой ликера, — может быть, это вызвало бы приятную улыбку.
— Знаете: а ведь это смело!
Что значило это «смело» — никто не знал. Но все понимали, что быть «смелым» необходимо, что это также необходимо в искусстве, как быть радикалом или социалистом в политике.
Но это «смелое» преподносится теперь мне, который постарел на пятнадцать лет (и каких лет!). И преподносится это тогда, когда рядом дышат своим дыханием Петровские знамена, когда тут, под боком, в спящей церкви, воплотилась вся история российская — и когда знаешь, что у этих полотнищ пролито море крови русских людей, чтобы в свое время высоко их держать, а в наше — отбить, спасти, сохранить…
Не на родине ли спят они? Не русский ли дух витает над ними? Не ясно ли, что в этой близости и одиночестве, хочется яркого правдивого русского слова.
…………………………………
И у Иова,
Бог, хотел взаймы?
Да не выгорело:
За городом мы!
За городом! Понимаете? За!
Вне! Перешед вал!
Жизнь, это место, где жить нельзя:
Ев-рейский квартал.
Так не достойнее ль во сто крат
Стать вечным жидом?
Ибо для каждого, кто не гад,
Ев-рейский погром —
Жизнь. Только выкрестами жива!
Иудами вер!
На прокаженные острова!
В ад! — всюду! — но не в
Жизнь…
Каюсь, мне хотелось заплакать от оскорбления.
А когда пришел день, настала обычная сутолока жизни, принесли почту. Здесь были газеты всех направлений. И почти во всех этих газетах, без различия политических оттенков, было написано о Марине Цветаевой и о ее «Поэме Конца».
Должен сказать, что Марина Цветаева имеет «хорошую прессу». Русские люди, которые никак не могут сойтись и семь лет грызутся друг с другом, сошлись на нашей поэтессе. «Дни», «Последние новости», «Возрождение» — все в один голос — посвятили нашей поэтессе сочувственные строки. Находили прежде всего «ритм». Затем — настроение. Затем — «формулу». Затем — «чувство русской народной песни». Затем — «новые формы» (обходится без глаголов)! Затем…
Да стоит ли перечислять достоинства Марины Цветаевой! В журнале «Благонамеренный» об этой поэме написано: «Автор — создатель „культурного“ эпоса. Каким-то чудом (чудом рождения, вероятно!) похищено перо у сказочной Птицы русской народной песни, — и пишутся этим пером „цивилизованные“ сюжетно и формально стихотворения… Что следует удержать из Поэмы Конца, это — все».[339]
Таков приговор критики. Около голого короля ходят придворные и вельможи и восторгаются его платьем.
Мне остается лишь уподобиться озорному мальчишке и на глазах у всей честной компании закричать:
— Смотрите-ка, а ведь король наш голый!
Тогда, — говорится в сказке, — все увидели, что король-то на самом деле голый.
Я не льщу себя этой надеждой. Я знаю, что меня объявят «ретроградом» и «невеждой», а слава Марины Цветаевой не потускнеет. Самый большой либерализм допускает только чуть-чуть и очень почтительно подшутить, как это сделал Lolo:
Помню: по-простецки написал я как-то:
«Он ее целует»… Мой Зоил пришел
В гнев неутолимый от такого факта:
– «Он — ее! И только! К черту ваш глагол!»
– «Он — ее! И только! Глубина. Стремнина.
Он — ее… Поймите, что глагол — шаблон.
Он — ее. Так пишет яркая Марина!
Я в стихи Марины бешено влюблен!»
Что Марина нынче в славе и фаворе —
Это всем известно и приятно всем.
И, конечно, я бы не «жалел о воре»
Если б он похитил пук ее поэм.
Но насчет глаголов с ней я не согласен, —
И скажу смиренно мнение мое:
«Он ее целует» (этот звук прекрасен),
Лучше, чем сухое, злое: «он — ее».[340]
Но я не могу шутить.
Через тот ров, который тщетно пробует засыпать г-жа Кускова,[341] подул тлетворный ветер, принес с собой дух Маяковских, разлился по эмигрантским весям, — и вот здесь, в эмиграции, празднует свою легкую победу.
Кривлянье этих господ объявляется там пролетарским чудом. В его «ритме» находят, что полагается: лязг железа, грохот молотов, фабричные свистки.
Кривлянье Цветаевой — объявляется здесь национальным достижением. В ее «экспрессии» ощущают «вечный пульс народной песни»…
И разве при таком кривлянии важно что написано? Разве не еще оскорбительнее, если «без глаголов» вздумается капризной поэтессе прославлять «белое движение» или возвеличивать «галлиполийцев»?[342] Разве не металась бы душа от негодования, если бы, в стиле советского павильона на декоративной выставке, был выстроен православный храм?
Д. Резников
Вечер Марины Цветаевой{92}
О Марине Цветаевой не напишешь в двадцати строках, которых едва ли хватит на перечисление ее стихов и поэм. Цитатами тоже не отделаешься: место не позволяет, да и к тому же стихи Цветаевой в написанном виде гораздо менее убедительны, чем когда слышишь их с голоса. Читая ее книги, невольно начинаешь читать вслух. В них столько жизни, движения, трепета; автор задыхается, выбивается из сил, спешит. Это стремительное начало в стихах Цветаевой обусловливает синтаксис, отрывочный, с опущенными промежуточными звеньями, и выбор слов: пократче, посжатей. Стихи ее увлекают читателя, он невольно начинает спешить вместе с ней, не зная куда, не понимая зачем, — не все ли равно?
Нужно ли перечислять ее книги? «Волшебный фонарь», «Стихи к Блоку», «Ремесло», «Царь-Девица», «Мóлодец», с каждым новым сборником Цветаева обновляется и совершенствуется. Она все лучше овладевает своим ремеслом и в последних своих поэмах и драмах: «Фортуна», «Смерть Казановы»[343] и т. д. выявляет себя большим мастером. Стихи ее необычайно индивидуальны, с первой строки, с первого слова узнаешь их высокий пафос.
Не следует сомневаться, что любители хороших стихов почтут своим долгом прийти послушать Марину Цветаеву на ее вечере, который состоится в субботу, 6-го февраля (79, рю Данфер-Рошро, Париж 14).
М. Гофман
Вечер Марины Цветаевой{93}
6-го февраля в Париже, в помещении клуба молодых поэтов, состоялся вечер Марины Цветаевой. Еще недавно считавшаяся среди вторых имен, полуимен современной поэзии, Марина Цветаева стала за последнее время не только одним из самых крупных имен, но бесспорно самым крупным именем. Ее вечер является лишним подтверждением ее мгновенно выросшей популярности, ее модности: за четыре года в Париже мне еще не удавалось видеть такого множества народу, такой толпы, которая пришла бы послушать современного поэта; еще задолго до начала вечера не только большое помещение капеллы и хоры были переполнены, но и в проходах происходила такая давка, что невозможно было продвигаться.