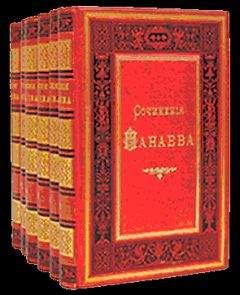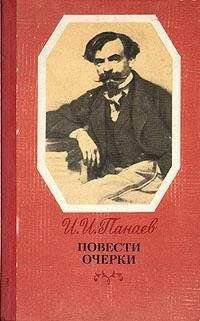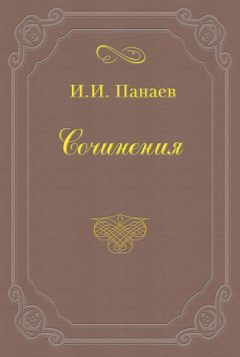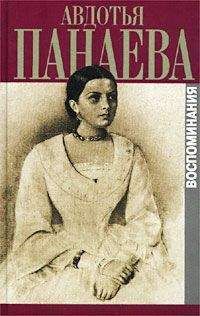Иван Панаев - Литературные воспоминания
— Нет, нет — не оглядывайтесь, — вскрикнул Загоскин, — мы сейчас доедем до того места, с которого надо смотреть на Москву…
Минут через десять мы остановились. Загоскин попросил попавшегося нам навстречу мужика подержать лошадь, а сам повел меня к дереву, одиноко стоявшему на горе…
— Ложитесь под это дерево, — сказал он мне, — и смотрите теперь, смотрите! Отсюда лучший! вид…
Я повиновался и начал смотреть. Действительно, картина была великолепная. Вся разметавшаяся Москва, с своими бесчисленными колокольнями и садами, представлялась отсюда — озаренная вечерним солнцем. Загоскин лег возле меня, протер свои очки и долго смотрел на свой родной город с умилением, доходившим до слез…
— Ну, что… что скажете, милый, — произнес он взволнованным голосом: — какова наша белокаменная-то с золотыми маковками? Ведь нигде в свете нет такого вида. Шевырев говорит, что Рим походит немного на Москву, — может быть, но это все не то!.. Смотри, смотри!.. Ну, бога ради, как же настоящему-то русскому человеку не любить Москвы?.. Иванто Великий как высится… господи!.. Вон вправо-то Симонов монастырь, вон глава Донского монастыря влево…
Загоскин снял очки, вытер слезы, навернувшиеся у него на глазах, схватил меня за руку и сказал:
— Ну, что, бьется ли твое русское сердце при этой картине?
В экстазе он начал говорить мне "ты".
Чудный летний вечер, энтузиазм Загоскина, великолепная картина, которая была перед моими глазами, заунывная русская песня, несшаяся откуда-то — все это сильно подействовало на меня.
— Благодарю вас, — сказал я Загоскину, — я никогда не забуду этого вечера.
Загоскин обнял меня, поцеловал и сказал:
— Ты настоящий русский, ты наш, — только ты, пожалуйста, не увлекайся этими завиральными идеями, которые начинают быть в ходу. Белинский ваш — малый умный, да сердца у него нет, русского-то сердца…
И он тыкал себя пальцем в левый бок…
С этого вечера Загоскин сделался ко мне еще благосклоннее. Он непременно требовал, чтобы я в театр иначе не ездил, как в его ложу, и очень хлопотал о том, чтобы показать мне Мочалова во всем блеске его таланта…
— Не знаю только, удастся ли, — говорил он: — надо пообождать немного. В эту минуту он никуда не годится, запил, каналья!
С. Т. Аксаков при всяком свидании с Загоскиным спрашивал: "ну, что Мочалов?..", получал неудовлетворительный ответ и приходил в бешенство…
— Погиб, кажется, окончательно этот великий талант! — восклицал он, ударяя кулаком по столу, — что с ним делать?
Сергей Тимофеич рассказал мне при этом, что он долго возился с ним и напрасно употреблял всевозможные усилия для того, чтобы пробудить самолюбие в Мочалове и оторвать его от грязной, невежественной жизни. Мочалову было неловко и дико в обществе образованных людей… Он давал им слово остепениться, благодарил Аксакова за участие, проклинал собственную свою слабость, несколько дней вел себя прилично, но потом вдруг незаметно исчезал, отдавался самому отчаянному кутежу с разными купчиками, напивался, буянил и кричал: "На колени передо мною! Я гений! Я Мочалов!" — Теперь я уж махнул рукой на него, — прибавил Аксаков: — едва ли вам удастся видеть его в настоящем свете; а впрочем — кто его знает?.. У него вдруг, неожиданно еще до сих пор вырываются истинно вдохновенные минуты, особенно в "Гамлете".
— Ну, милый, я тебе привез приятную новость, — заговорил однажды Загоскин, входя в кабинет С. Т. Аксакова: — говорят, Мочалов приходит в себя… Мы дадим для него «Отелло» и «Гамлета» (он указал на меня)… Только крепко боюсь я за него. Едва ли он надежен…
— Бог даст, ничего, — заметил Сергей Тимофеич: — в целом не выдержит, так, может быть, минутами будет хорош…
Через несколько дней после этого на афише появился «Гамлет» с Мочаловым. Сергей Тимофеич ждал этого спектакля с большим волнением, между страхом и надеждою…
Я вместе с ним сидел в директорской ложе. Загоскина не было при начале спектакля…
Перед поднятием занавеса Сергей Тимофеич произнес с беспокойством: "посмотрим, что-то будет!" По окончании первого акта Сергей Тимофеич посмотрел на меня грустно и, покачав головою, произнес: "нет — из рук вон плох". Во время второго акта, в сценах, где появлялся Гамлет, Аксаков уже едва сдерживал свое огорчение и негодование… Он с беспокойством поворачивался на своем стуле и шептал: "он совсем погиб!.. Еще никогда он не был так дурен в Гамлете. Его просто надо прогнать со сцены". Когда занавес опустился, Сергей Тимофеич вышел из ложи совсем встревоженный и наткнулся в комнате перед ложею с Загоскиным, который только что приехал.
— Какая гадость, — сказал он, обращаясь к Загоскину и задыхаясь от досады: — ведь смотреть, братец, нет никакой возможности…
— На кого? На Шекспира? — перебил Загоскин рассеянно и приглаживая у зеркала свои волосы… — То-то, милый, — продолжал он, — вы все кричите: Шекспир! Шекспир! Гений! гений! и считаете святотатством, если из него слово выкинешь; а его надо непременно сокращать, я это всегда говорил…
Аксаков вышел из терпения, схватил Загоскина за отвороты фрака и начал трясти его…
— Какой Шекспир! Ну какой Шекспир!.. Что ты бредишь? Не на Шекспира, а на Мочалова нет возможности смотреть… Понимаешь?..
— А-а! — протянул Загоскин: — ну, да я предчувствовал, что он играть не может.
— Зачем же ты заставил его играть? Ведь на него жалко и стыдно смотреть. Это не Гамлет, а пародия на Гамлета!..
Загоскин вспыхнул.
— Да ведь ты же приставал ко мне: "скоро ли покажешь ты нам Мочалова? да когда ж велишь дать Гамлета?.." Ну, вот я и велел дать, а ты на меня же накидываешься.
После сцены с матерью в третьем акте Сергей Тимофеич не выдержал — махнул рукой и уехал…
Я тоже едва усидел до конца: ни одного вдохновенного проблеска, ни одного слова, вырвавшегося из сердца; неуместные вскрикивания, неловкость движений, нестерпимая бестактность в игре… "Где же этот талант, о котором кричали все москвичи? Где же этот Гамлет-Мочалов, от которого Белинский приходил в такой энтузиазм?.." Я вышел из театра усталый, с неприятным, тяжелым впечатлением.
Через неделю после этого давали "Отелло".
В «Отелло» Мочалов был так же плох, как и в «Гамлете», только в сцене второго акта, когда Десдемона встречает его на острове Кипре, Мочалов обнаружил такую искреннюю нежность, такую бесконечность любви к своей супруге, что по этой сцене можно было догадываться, каким бывает он в лучшие, вдохновенные свои минуты на сцене. Голос его поразил меня своею симпатическою мягкостью, выражение лица — глубоким и истинным чувством.
Но мне так и не удалось видеть Мочалова в настоящем его свете.
— У меня завтра вечером, — сказал мне Сергей Тимофеич, — Загоскин читает свой новый роман "Тоску по родине". Приезжайте, если хотите послушать. Он вас полюбил и хочет непременно, чтобы вы были в числе слушателей…
Чтение началось со 2-й части, содержание первой автор рассказал нам.
Я сидел возле С. Т. Аксакова.
Под текучий и гладкий слог Загоскина я было забылся на минуту… Вдруг этот приятно усыпляющий слог превратился в живой язык, повеявший свежестию и силою: описывалась малороссийская ночь… Я невольно встрепенулся… Место действия романа в Испании, — как же тут попала малороссийская ночь?.. Я не разобрал вдруг, но вскрикнул невольно:
— Как хорошо это!
Сергей Тимофеич дернул меня с улыбкою за рукав:
— Что это вы? — шепнул он мне: — ведь это он приводит иронически отрывок из Гоголя, замечая, что если уж так описываются малороссийские ночи, то как же описать испанские?..
После описания какого-то испанского города Сергей Тимофеич перебил чтение и спросил у Загоскина:
— Да как же ты это так хорошо и подробно описываешь наружность испанских городов, никогда не бывав в Испании?
Загоскин положил рукопись на стол, взглянул на Аксакова через очки, наклонив немного голову, и отвечал очень серьезно:
— А на что же у меня, милый, лукутинские-то табакерки с испанскими видами?..
И приостановя на минуту чтение, он начал доказывать, что лукутинские изделия — верх совершенства, что у иностранцев и отделка и рисунки на подобных изделиях хуже, и что если русский человек захочет, то он всегда заткнет за пояс и немца, и француза, и англичанина… …Дни летели для меня в Москве весело, разнообразно и с быстротою неимоверною.
Мысль о том, что я должен месяца через два оставить Москву (мне необходимо было ехать по делам в Казанскую губернию), приводила меня в беспокойство.
— Если бы можно, я никогда не расстался бы с Москвою! — говорил я Константину Аксакову…
— Да переезжайте совсем к нам, — возражал Аксаков: — у вас нет ничего общего с Петербургом.
Мы говорили вполголоса. В нескольких шагах от нас у окна (это происходило в гостиной Аксаковых) стоял Сергей Тимофеич с М. П. Погодиным, с которым я еще не был знаком.