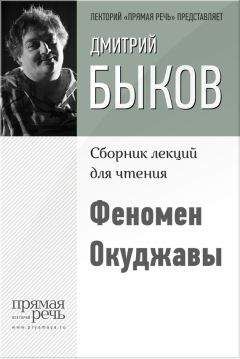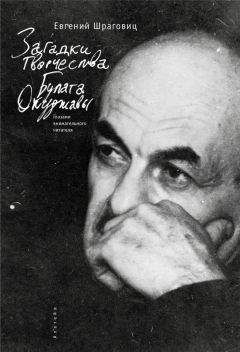Станислав Рассадин - Книга прощания
Тот же год, июль, вновь из Москвы в Саулкрасты:
«15/VI в Д/К Горбунова было поразительное чествование Булата, устроенное Клубом самодеятельной песни. Дело даже не в «сути», а в Атмосфере. Сотни очень хороших молодых лиц (Фазиль сказал, что, он видел такие на фото времен Февральской революции; я его, правда, огорчил и вспомнил, что в 37-м были не хуже). Вел программу Юлик Ким, выступали все певцы, барды (наконец услышал песню Вероники Долиной про Натана Эйдельмана) – все были в большом ударе (особенно Никитины и Валя Никулин, сам Ким) – затем вышел Булат, еще с ангиной, и спел пару новых чудесных песенок (о генерале и о скрипке). В последней ему вдруг подыграл сын на фортепиано и один прекрасный скрипач: это был сюрприз и выглядело трогательно, естественно. А после – человек 60 оказались за столом, за кулисами – и там было опять весело; и тут уж Ким опять «выдавал», а Булат попросил помянуть Александра Аркадьевича и Владимира Семеновича.
И разошлись в 2 часа; Булат сказал, что знал – будет хорошо, но не ожидал, что так хорошо. Ему сделали массу остроумных подарков – в том числе газетку «Менестрель», где многие (и я) написали. А сверх того – полное собрание его сочинений в одиннадцати томах в одном экземпляре: перевели на ксероксе все, что он когда- и где- либо напечатал на машинке – все когда-либо написанное; это снабдили фотографиями, предисловиями (к каждому тому), переплели и вручили. Не знаю, хорошо ли я передал мысль, но вдруг будто вернулись «идеальные» шестидесятые и т. п. Ладно».
Февраль 1985-го, в Малеевку из Москвы:
«Спасибо, Стасик, за хорошие слова в адрес моего А. С. П. Я вообще-то все больше с тобою согласен, что
Пушкина надо бы «изолировать от общества», и даже сам не рад, что сверх этой сдал еще одну книжку, последнюю, о нем: инерция, старые запасы… Просто образуется сегодня от писания о нем какая-то химическая реакция великого поэта и дурного общества потомков: срочно нужны новые обезвреживающие средства. Я, конечно, хотел все больше поговорить об истории – благо, прикрывшись мэтром, это полегче».
Наконец, письмо в Москву из Гульрипши (Абхазия). Сентябрь 1985-го:
«…Занят любимейшим делом (Рассадину не то что не понять – не вообразить!): читаю журнал «Вестник древней истории», где в трудных, наукообразных текстах попадается такая прелесть, какую (для меня) не поставляет ни один исторический роман (например, письма древнеримских солдат, жалующихся на тяжелую службу в пустыне и тоску по дому – письма, извлеченные из великой Оксирин- ханской помойки, куда египтяне более 1000 лет выбрасывали ненужные вещи, старые письма и т. п.). Сверх того поглядываю уже на груду грибоедовских бумаг, но боюсь прикасаться («взялся – ходи»); ясно понимая, что мне не представится в ближайшие несколько лет случая – поделиться с писателем Р. своими находками и гипотезами, я захватываю его врасплох, за чтением письма, и… небрежно сообщаю 1 – 2 тезиса. Главное, по-моему, в том, что, следуя за тыняновско-рассадинской мыслью (нет, чисто рассадинской, если не пиксановской), что Грибоедов оттого ударился в карьеру, что «творчество не шло», – я убедился, что это неверно.
1. Слишком мало времени после «Горя», чтобы убедиться в бесплодии; к тому же он, по всей видимости, высоко ценил «Грузинскую ночь» (дело не в нашем несогласии, а в его субъективном мнении).
2. Но не это главное. Главное, что все, все (и Тынянов, и Лебедев, и мы, грешные) – люди XX века, наделяющие Грибоедова нашей позицией, – что писателю делать гос. карьеру нелепо, стыдно. Меж тем – для XVIII – начала XIX это нормально, естественно; даже наоборот – писатель вне гос. деятельности странен. Так что Грибоедов продолжал традицию Кантемира – Державина – Карамзина…
3. Может быть, главное. Грибоедов видел поэзию в гос. деятельности на Востоке, недаром говорил с Бегичевым, что явится туда пророком, видел в этом и независимость, и полезность, и «высокую болезнь»: а может, и правда, друг Стасик, быть министром или послом столь же интересно и возвышенно, как писать книжки о былых веках и людях?»
Между прочим, как здесь предчувствуется, предвидится, предполагается в качестве, чем черт не шутит, возможного – и уж куда отчетливее, чем на то было способно мое юношеское сновидчество, – горбачевская перестройка, когда интеллигенты-гуманитарии хлынули в депутаты (иные и впрямь – в министры, в послы). Дальнейшего еще не предвиделось, хотя незадолго до смерти, написав послесловие к одной из моих книжек, Натан вспомнит слова своего любимого Герцена: под солнцем свободы не только травка зеленеет, но и зловонные миазмы поднимаются из сточных канав.
Миазмы пришлось вдохнуть и ему. В сентябре его смертного, 89-го года я, живя все в той же Малеевке, получил от него письмо – самое последнее:
«Стасичек, кажется, тебе придется еше раз мне написать, ибо улетаем в Болгарию только 21 сентября.
…Как бы ты (и я) узнавали – что о нас пишут Глушко- ва и Бурляев, ежели б не библиотеки Домов творчества? Не опасаешься одуреть от избытка вони? Я стал побаиваться этого чтива.
…Только что получил открытку «Эйдельману Н. Я., иудею (очевидно, чтоб не попало случайно к Эйдельману Н. Я. – православному) с обратным адресом «Челябинск. Русские» (а на штампе «Свердловск»!). В открытке имеют место стихи:
Помрачение умов
Привело к великой смуте,
И возникпа власть жидов
Беспощадная по сути –
а затем проклятия и «слава хрестьянской (так!) державе»…»
Перечитывая сейчас эти строчки, прислушиваюсь к себе: обидно? Горько?… Да нет. Противно – это без сомнения, а в общем, нормально – для тех ненормальных условий, в которых живем и умираем. Убежден, что Натан тут со мной согласился бы, а если бы при этом умолчал о тайных страданиях самолюбия, об усталости от приставаний назойливых пакостников, возможно, и о недовольстве самим собой, что подобное злит, то есть хочешь не хочешь, но добивается своей пакостной цели, – что ж, это цена, которой платишь за выбор, сделанный единожды и навсегда.
В «Большом Жанно», в «повести об Иване Пущине», странно и привлекательно переполненной самим автором, его, как выражаемся, комплексами, есть замечательное место. Пущин, сам тому удивляясь, вспоминает, что 14 декабря, на Сенатской, где судьбы трагически переламывались, где ожидалась то ли победа, то ли, что вероятнее, гибель, – «было весело». Да! Смеялись, шутили, озорничали. «Чем дальше и страшнее – тем веселее мне было». Больше: «Именно у самого конца, когда уж стемнело, – апогей надежды и, стало быть, веселья!»
Отчего так? «…Поводом к веселью было, думаю, чувство, что выбор сделан и дело сделано: худо, бедно, а сделано».
Дерзость угадливости – не только от знаний историка, не только от права домысливать, дарованного профессией беллетристу, но от чего-то… Все-таки – подсознательного. Обретающегося в подкорке.
…Наш с Эйдельманом близкий друг Михаил Козаков писал в своей книге «Третий звонок», пересказывая отчасти эссе Бенедикта Сарнова «Кто мы и откуда», – и, читая его строки, мучительность которых очевидна даже тому, кто не знает козаковского самоедства, не могу не мерить их судьбою Натана.
«Он, – говорит Козаков о Сарнове, – размышляет на ту же тему в России, что я здесь в Израиле. Суть одна…Я ведь тоже родился в мифической стране Гайдара, разумеется, Аркадия, не Егора. «Папа у меня русский, мама румынская, а я какой? Ну угадай». – «А ты – ты советский. Спи, Алька, спи!» – Аркадий Гайдар.
«Шел он, Юрий Карабчиевский, – пишет Сарнов (а Козаков прилежно цитирует. - Ст. Р.), – однажды мимо Кремля. И живо представил себе, как с этих зубчатых стен, или других, белокаменных, льют смолу-кипяток на татаро- печенежских захватчиков наши добрые, в красных кафтанах молодцы. И вдруг он с необыкновенной остротой почувствовал… «что столь важное для меня понятие «Россия» ограничено для меня и временем, и системой знаков. И вот эти, лившие кипяток и смолу, явно не мои, чужие предки. И не чувствую я по отношению к ним никакого сродства, ни особой жалости, ни особой гордости…».
А потом он, Юрий Карабчиевский, попал на другую, свою, как принято говорить в таких случаях, историческую родину. «Целый год, – пишет Карабчиевский, – я жил в удивительной, ни на что не похожей стране, где никто не мог сказать: давай, проваливай! Это все не твое! Это все наше! А напротив – все наперебой говорили: оставайся, приезжай насовсем. Это твое. И показывали мне развалины крепости, где наши, будто бы общие с нами предки, почти 2000 лет назад три года защищались от римских захватчиков. Девятьсот человек моих предков против скольких-то там десятков тысяч осаждавших. И я стоял на огромной скале и живо представлял себе тех людей, и грешно сказать – но и к ним тоже не чувствовал никакого сродства. Не свои мне ни дружинники в кольчугах, ни те полуголые мужики с ножами-кинжалами. Никто мне из них не друг, и никто не родственник. Вся моя принадлежность лишь в настоящем и ближайшем прошлом. И если сейчас она распадется во всеобщем российском хаосе, то и останусь я, значит, один, вне истории и географии».