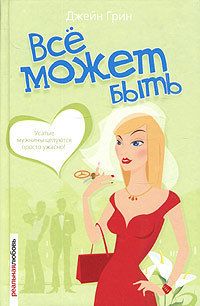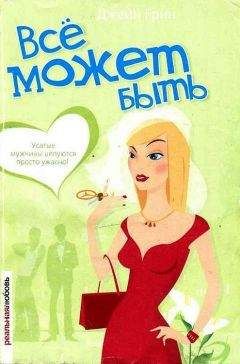Варлам Шаламов - Эссе
И еще одно. Как только стало видно, что стихи — подлинность, что в них есть и кровь, и судьба, и эмоциональный напор, и новизна интонационная, как только стало видно, что я могу рвануться почти по собственному желанию на некую высшую ступень, где нет ни зрения, ни слуха, ни одного из человеческих чувств, ибо все отключено, а мобилизовано лишь одно — познание мира с помощью стихов. Когда я понял, что могу сделать это волевое усилие, я уже в полубреду, в стихах, я стал считать себя поэтом. Не всегда это волевое усилие приводило к успеху. Иногда ничего не писалось, и я бросал писать, прекращал, выключал тайну. Мне раньше казалось, что, если я брошу писать, все кончится, завтра я уже не напишу ни одной поэтической строки. Я боялся прекратить писать, и на следующий день действительно ничего не писалось. А потом опять наступал день, когда я с удовольствием, с радостью брался за перо и писал до изнеможения, до боли в мышцах. Я перестал бояться перерывов. Вот это было как-то важно — не бояться перерывов. Нужное придет само. И в свое время.
По утрам так торопишься к бумаге, чтобы наскоро записать рожденное, вернее, рождающееся стихотворение. В моем <мозгу> существует запас канонических русских размеров, который и может быть запущен по первому требованию моему, и обычной дорогой двинется мозг, выталкивая из гортани то, что скопилось там. Это не обязательно стихи, но именно стихам делается зеленая улица, все остальное вернется, (не) возвратятся стихи.
Утраченное, повисшее в воздухе, не доведенное карандашом до бумаги обязательно пропадет безвозвратно. Я не очень горюю об этих пропавших — запас неиспользованного еще велик. Что там хранится, что ожидается, я этого знать не могу. Наверно, весь мой жизненный опыт, какие-то факты, <чужие> суждения, афоризмы знакомых и мои собственные остроты. С профессиональным интересом я всегда следил, хотя и не всегда запоминал, изречения, размышления, суждения поэтов и поэтесс. Но это все в той черной яме, которой я не распоряжаюсь. Я буду распоряжаться только той крошкой, строчкой, которая вдруг состоялась. Мне становится легче дышать, и я пишу стихотворение.
Анна Андреевна Ахматова сказала Межирову: «Винокуров — хороший поэт, но нет тайны». Что это значит?
Это значит, что в стихах Винокурова все известно заранее, что литературная неожиданность не помогла ему, не подстегнула литературное молчание. Когда-то Пушкин-импровизатор почувствовал приближение Бога. Винокуров нарушил закон, закон тайны при начале творческого процесса, понадеялся более на логику, грамматику, чем на неожиданно выступающие из каких-то глубин сознания уже зарифмованные стихи. Многие считают стихи чудом, загадкой. Я не считаю и самым удовлетворительным, вполне материалистическим образом объясняю их появление в тетради. В тетрадь стихи попадают путем письменной записи. Эта фиксация и своеобразна, и подвержена другим законам, чем просто устная речь. Мандельштам, Маяковский набалтывали свои стихи, расхаживая в комнате или по городу. Центр письменной речи находится не там, в мозгу, где центр устного слова. Звуковой сигнал из гортани, с губ должен вернуться в мозг и появиться уже в виде записи на бумаге. Тут выявляется и чисто контрольный механизм, не всегда записываешь точно, что написалось, наговорилось. Иногда возникают и посторонние мысли вне размера, ритма и отвлекают. В общем-то эти посторонние мысли не мешают творческому процессу. Он должен быть достаточно силен, чтобы заставить тебя дописать стихотворение (речь о первой части стихотворения, предварительной записи, неполной записи).
Не будучи согласен ни с чудом, ни с загадкой, я попытался дать стихотворное толкование, стихотворное размышление, стихотворное изыскание этой вообще-то знакомой и неновой для меня темы. Я беру карандаш, остро отточенный карандаш, и начинаю писать, сразу улавливая и размер. Размер ищется наиболее лаконичный.
Пусть не тайна, не загадка…
Я бормочу эти найденные <строки>, самые лаконичные, какие может позволить себе эта тема.
Пусть не тайна, не загадка,
Ну же, что же…
Только кроссворд. Строчки привели бочку, важный символ пушкинской сказки о Гвидоне. Что же было нужно Гвидону? Ветра, ветра бочке. Я задерживаю окончание стихотворения на несколько дней, дольше нельзя настроение удержать, первичность исчезает.
Чтобы ветер дул Гвидону
В океане плыть бездонном.
Стихотворение уже написано. Я вспоминаю, что в моих прежних стихах большую нагрузку выполняло слово «ада», «шарада». Сам бог дает в руки эту рифму.
Моя лучшая награда —
Постигать шарады ада.
Но я запрещаю себе применять эту рифму для своих стихов. Для темы подходит, хотя, конечно, в голове не было (или мне казалось, что не было). Вот я уже пустился в путь бумажный. Ход — рифма, размер, экономное слово, стихи, чье решение очень кратко, очень просто, делал без всякой задержки. Мозг подает на бумагу материал, как бы обусловленный «кроссвордом», за рифмой не слежу, только отсекаю, отсекаю и сушу. В тетради появляется:
Буриме пускай, шарада скрыта в строчках,
Мне шараду-то и надо…
Тут я чувствую, что могу разрешить эту тему уровнем выше, чем задумал, глубже, шире, — словом, находишь больше, чем хотел.
Стихи — это такая область человеческой деятельности, которая всегда представляет некую тайну, неожиданность и для поэта, и для читателя. Вся стихотворная область такова, что нет стихов, понятных всем, нет стихов, понятных самому поэту до конца. Друзья или время дописывают, а главное, додумывают, дочувствовают за него все остальное опять-таки по своему аршину, по своей мере понимания и по мере своей нужды. Казалось бы, такое ощущение непонимания наверняка должно было бы охладить поэта. На самом деле этого не происходит. Поэт строчит, не надеясь на признание в будущем и на успех в сегодняшнем дне, не понимая истинного значения стихов в современном обществе — или, скажем, в обществе 20-х годов.
Поэзия вся национальна и не может быть иной. Но именно поэтому в национальное море, вечно меняя берега, вливаются новые течения, иностранные течения, которые тоже обновляют язык поэтической речи без риска его разрушить. Эти иностранные слова внедряются в русский язык и сами становятся русским языком. Этот поток благотворный, неудержимый, необратимый. Чем больше будет вброшено в поэтическую речь иностранных слов, тем лучше, как свидетельствует интернационализм, обогащает любую культуру, в том числе и культуру языка поэтической стихотворной речи. Именно потому, что поэзия национальна, она должна без забот, без искусственных препятствий, без охранительных <барьеров> открыть путь в поэтическую речь иностранным техническим терминам без боязни, что они исказят, нарушат естественную структуру поэтического языка. Язык именно потому, что он национален, все равно уцелеет.
Душа поэзии — современность, абсолютная и сиюминутная. В этом-то и есть гражданственность — в отклике на все события эпохи и страны, на сиюминутности, сейсмичности. Современность, гражданственность отнюдь не представляют собой конформизма. Я никаких идей реставрации церквей не разделяю. Моя позиция — переделки природы, поворота рек, космических завоеваний, строительств великих плотин, дамб, освобождения третьего мира. Душа поэзии — современность, и пейзаж в русской лирике только тогда становится пейзажем, когда он говорит человеческим языком. Достаточно очеловечить камень, и камень заговорит на любом международном форуме на любые темы, волнующие человечество. Это ли не пример гражданской лирики. Пейзажная лирика — это как раз лучший род гражданской поэзии. Вопрос о форме и содержании касается возникновения стиха, приоритета в начале, кому принадлежит начало: Гете или неандертальцу. Я глубоко убежден, что главное все же не Гете, а неандерталец, его звуковая магия у вечернего потухающего вечного костра.
Одним людям стихи нужны меньше, другим больше. Но нужны они всем. Поэтам, кстати, стихи нужны меньше всего, чужие стихи их портят, смущают.
Техника стихосложения: определить в ритме, в размере какую-нибудь бытовую фразу, а потом пустить по спирали смысла и звукоподражания во все более высшие области — вот и все. Потом очистить лишнее. Новинка в стихе — в первой строфе. Эта первая строфа оправдывает все стихотворение, потом в последней строке.
Меня всегда удивляла готовность, постоянная «заряженность» на старые свои стихи, на популярные, известные: Маяковский, например, читал «Левый марш». Поэт должен интересоваться завтрашним, сегодняшним, тем, что еще бродит в мозгу, а если читать в концертах или на разных так называемых литературных вечерах, то только не напечатанные еще стихи. В чем тут дело? Ведь поэту, должно быть, неинтересны и просто мучительны старые свои стихи. К стихам относятся слишком серьезно. Двоякая ошибка. Стихи читатель принимает за исповедание веры. На самом же деле в стихах нет ничего, кроме стихов. Стихи не учат, не обманывают, они вне мира добра и зла. Пейзажная лирика имеет такие же права, как инструментальная музыка. Не надо искать того, чего в стихах нет.