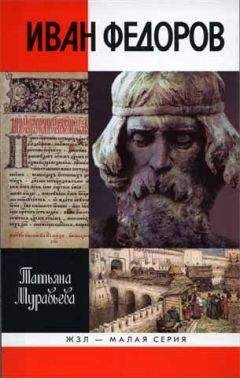Вальдемар Лысяк - Зачарованные острова
Чистосердечие в отношении самого себя — это обязанность, вид внутренней дисциплины, о которой Габриэль д'Аннунцио говорил, что это «наивысшая добродетель свободного человека».
Откровенность бывает роскошью, которую, иногда, могут себе позволить высшие сановники Системы, чтобы продемонстрировать величественное превосходство над чернью и над моралью — это самый первый случай. В 1933 году Гитлер совершенно откровенно орал слушателям, предсказывая разрыв нацистов с «мещанской моралью»: «У нас нет потребности идентифицировать себя с мещанскими представлениями о чести и репутации!». Они и не идентифицировали, творя различные вещи, в том числе, отравляя людей газом. Это, как раз и была, та «откровенность» знати, о которой говорил герой написанной писателем из Ганы, Армахом, книги «The Beautiful are not yet born» («Красивые еще не родились»), скромный железнодорожный чиновник, ведущий честную жизнь, вопреки собственному убеждению, будто бы «честность — это привилегия шутов и трусов».
Во втором случае мы имеем человека из толпы. Для него откровенность не является жестом — столь дорогостоящие жесты он не может себе позволить (Давид де Брюйес писал: «Какже легко быть честным и откровенным, когда ты богат. Бедняку быть честным намного труднее».). Когда кто-то раз подвигнется на честность в слое или поступке — это отчаяние. Когда он сделает это же во второй раз — это уже акт отваги, за который получаешь побои от хранителей Системы. Третий раз — это уже дорогостоящая неразумность. Если же он попробует быть в этой игре честным в четвертый раз, стадо посчитает его глупцом, отделит его от «разумных» и в качестве наказания присудит ему одиночество. Если же и это не склонит его к «исправлению» — он делается самоубийцей в обществе. Он проиграл. Неважно, открыл или только попытался открыть душу в присутствии начальника, жены, приятеля или подчиненного. Бывает, что общество прощает преступникам, но никогда — мечтателям и идеалистам. Быть может, прав был тот рабочий из пьесы «Мандат», написанной другим африканским автором, сенегальцем Усманом, который пришел к выводу, что в мире, где полно волков, «честность — это правонарушение»?
Тот факт, что ты знаешь откровенных людей, которым это удалось, ничего не меняет. У каждого правила имеются свои исключения — без них правила перестали бы быть обязательными. В любой игре случаются моменты везения — без них игра утратила бы свою привлекательность. Если рискнешь откровенностью, создашь девяносто девять процентов шансов на то, что проиграешь. Зато очутишься среди тех, благодаря которым стоит жить.
Единственным — помимо себя самого — человеком, в отношении которого ты можешь быть безнаказанно откровенным, это исповедник. Только какой ценностью обладает откровенность, если за нее тебе не грозит удар плеткой? Такой же, как и штыковая атака, когда атакующие знают, что неприятель будет стрелять бумажными пулями. Потому мы и не боимся становиться на колени в исповедальне. Выходим же мы из нее с искренним решением сражаться с новыми искушениями, а ведь известно, что «простейший способ бороться с искушением, это поддаться ему» (Тристан Бернар). Вот именно. Так оно все и крутится уже сотни лет. «Epur si muove!»[51]
Andrea Fantoni 1659–1734
и его деревянный шедевр
Я бы предпочел, чтобы этот предмет мебели Фант они был не столь красивым. Стоя на коленях в нем, я мог бы забыть обо всем именно тогда, когда следует извлечь все из глубин памяти, и я бы поглощал его супер-искусство, лучащееся из сплетений резных деталей. Какие-то амурчики, гербы, символы, виноградные гроздья. И листья — самые универсальные ширмы. С одинаковой легкостью можно заслонить ими половую импотенцию, равно как и не знающую границ глупость. Тот факт, что в первом случае мы используем фиговые листки, а во втором — лавровые, значения не имеет.
Я подхожу к исповедальне Фантони поближе. Сейчас внутри развлекаются две молоденькие немочки или австрийки, щебеча сдавленным смехом. Одна из них сидит и слушает, а другая «исповедуется». Какой-то пожилой мужчина прерывает забаву и выгоняет девиц. Взамен он получает злобный взгляд двух пар глаз. Женщины и исповедальня Фант они, феминизм и барокко, тайна в тайне. Мадам де Лонгевилль написала любовнику: «Как раз отхожу от исповедальни. Провела здесь три четверти часа и имела удовольствие говорить исключительно о тебе».
Мужчины реже ходят к исповеднику, но, когда уже это делают, относятся к исповеди иначе. Возможно, из-за отсутствия экзальтации. Здесь я имею в виду людей обычных — сановники не вмещаются в какие-либо обобщения в связи с жестами — поступками, которые они способны позволить себе чаще, чем серая масса. Законы для великих всегда были исключительными, и раньше, и теперь. Исповедник гетмана Браницкого, после ритуального «покаяния» магната, осмелился спросить: «Так какие же еще вельможный гетман грехи против Бога совершить соизволил?» — это пример из позавчера, вчера, сегодня и, наверняка, завтра.
Мой бергамский архипелаг, его феминизмы, исповедальня Фантони, мои мысли и размышления — все это замкнуто стеной бастиона, ценной, как и все фортификации. Жилые дома мы возводили тысячи лет назад и сейчас возводим; храмы и театры появлялись многие столетия назад и появляются сейчас, стадионы служили людям в древности, равно как служат и теперь. Все общие в плане функций типы строительства пережили века, и они до сих пор живы, до сих пор они эволюционируют — умерли только фортификации. Мы закончили их строить, похоже, что уже навсегда. Это странно, ведь войны живее всех живых. Но войны, точно так же, как и участвующие в них люди, в течение истории надевали на себя все более легкое снаряжение. Когда-то и фортификации носили тяжелые панцири, сейчас же им хватает легкой униформы из колючей проволоки, а невыгодные каменные «доспехи» отправились в те же музейные запасники, где на манекенах надеты железные рыцарские доспехи.
В своем плане укрепления Бергамо имеет форму сердца, их рисунок столь же выразителен и четок, как сердечко на именинной открытке. Странный каприз природы придал скале форму символа любви, а Паоло Берлендис и Пьетро Раньола вели в XVI веке линию фортификаций по склону — отсюда и сердце. Злорадным жизненным парадоксом является тот факт, что для возведения этих «сердечных» укреплений нужно было разрушить восемьсот зданий и церквей, в том числе, храм святого Александра, покровителя города, принявшего здесь мученическую смерть в 278 году. И сделано это было без малейшей тени жалости, закрыв глаза на бездомных детей, заткнув уши перед плачем изгнанных матерей и проклятиями стариков — без малейшего сердечного участия. Военная архитектура была госпожой тех времен — и госпожой жестокой. Четыре тысячи человек в течение тридцати восьми лет клало камень на камень, пока в 1599 году стены не зависли над крепостными рвами, четко обрисовывая форму сердца. Сатанинская ирония!
Так что я предпочитаю всю женственность Бергамо, чем один-единственный мужской акцент, замкнутый внутри сердца упомянутых укреплений, на самом его краю. Правая выпуклость сердца — это бастион святого Августина, а в нем — средневековая, наполненная шедеврами церковь, которой покровительствует тот же святой. Всего лишь день продолжалась перемена этого храма в казармы, функционирующие впоследствии сто шестьдесят лет! Когда я добрался туда, то понял, что не понимаю ничего, и что в Италии меня ждет множество таких черных уроков.
Церковь святого Августина была частью монастыря, выстроенного в XIII веке. Он сгорел в 1404 году, но через тридцать восемь лет ее возвели из пожарища, получая нафаршированную романским стилем готику, во славу святых Филиппа и Иакова и ради нужд конвента. Здесь писал свой «Лексикон» брат Амбруаз да Калеппио, а Филипп Форести и Ренато Калви создавали свои истории. Лютер останавливался здесь во время паломничества в Рим. Останавливались здесь и другие, любовались произведениями искусства, которыми время и люди украсили стены храма. Однонефовый интерьер церкви хранил живописные полотна (которые создавали Тальпино, Лотто, Ольмо, Виварини и Превитали), рельефные фоны и мастерски сделанные каменные надгробия.
В 1797 году в храм вошли австрийцы и заявили, что здесь могут быть устроены замечательные казармы. То, что им мешало или было ценным, пошло на свалку или на продажу, остальная часть внутренних украшений вынуждена была вдыхать смрад войны. Это правда, что во время московской кампании французы превращали церкви в конюшни, но только в исключительных случаях, поскольку остальные здания были сожжены их врагами. Губернатор Растопчин превратил в золу половину Москвы и собственный дом, наложив на руины проклятие; шокированный Бонапарте, видя эту оргию огня, шептал: «Что это за люди! Это ведь скифы!» Что оставалось французам — спать на снегу или внутри церкви? Венецианцы обстроили в Старом Баре могучей бастейей церквушку X века, пожизненно превращая ее в крепостной каземат — но ведь это было четыреста лет назад. В Бергамо храм осквернили, когда человечество уже переелось Возрождением и Просвещением, и это состояние длилось до 1958 года.