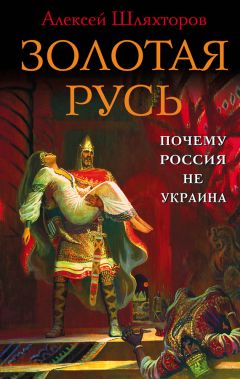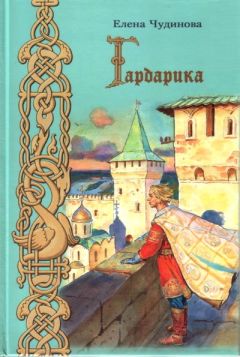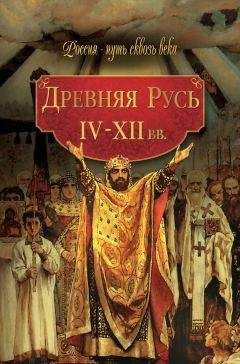Сергей Родин - Отрекаясь от русского имени. Украинская химера.
Впрочем, факты— упрямая вещь и украинствующему профессору постоянно приходилось накладывать узду на свою не в меру буйную фантазию, ведь занявшись производством на свет Божий «исторических монографий», он принужден был считаться с требованиями жанра и приправлять свою безудержную ложь хоть какой-то толикой правды. Конечно, «правдивость» эта носила чисто условный характер и сводилась к тому, что при воспроизведении внешней канвы событий Костомаров как-будто следовал источникам и описывал их в соответствии с реальным ходом дел, но чтобы и эту фактологическую правду читатель воспринимал нужным образом, обильно сдабривал ее авторскими толкованиями, интерпретируя с самостийнической точки зрения.
Весьма показательна в этом плане его оценка мазепинской авантюры. Лживо утверждая, что малороссийское население «не питало привязанности к Русской державе и соединению с москалями», он объясняет отсутствие массовой поддержки гетманской измены тем, что народу «из двух зол надо было выбирать меньшее (вспомним «Историю Русов»: «из видимых зол, нас обышедших, избрать меньшее»). Как бы ни тяжело было ему под гнетом московских властей, но он по опыту знал, что гнет польских панов стал бы для него тяжелее».
Таким образом, само понятие «измены» при оценке действий Мазепы теряло смысл: гетман просто допустил ошибку в весьма сложных исторических условиях, но сами действия гетмана были спровоцированы «московским гнетом». Так что именно «Москва» — истинный виновник происшедшего.
А чтобы мысль эта прочнее засела в читательском сознании, сочинитель «двух русских народностей» создает миф о непримиримом, извечном их антагонизме. Создает обычной для него методой циничной, продуманной лжи, привлекая в качестве «источника» все те же одному ему известные «слухи», «вести» и «молву»: «Немало сохранилось известий того времени о столкновениях, происходивших в разных местах между малороссийскими жителями и великороссийскими царскими служилыми», «взаимные ссоры нередко кончались кровавою расправою». Вследствие этого «со всех сторон сыпались жалобы на дурное обращение великорусов с малороссиянами», бесконечно росло «раздражение малороссиян против великороссиян» и «во всем малороссийском крае раздавались резкие и враждебные крики против «московского пановання» … Иезуитски скрытно Костомаров подталкивает читателя к нужному выводу: «кровавые расправы», «раздражение», «враждебные крики» должны, в конце концов, завершиться закономерным итогом — восстанием «угнетенных» против «угнетателей»! Но в этой кульминационной точке творцу «новой реальности» приходилось останавливаться: единственно достойный финал «вражды», разделявшей «две русские народности», или даже отдаленные намеки на таковой, в его распоряжении отсутствовали: мазепинская «эпопея» на него явно не тянула по ничтожности своих участников. А после нее самостийникам и вспомнить было нечего. Малороссийская история в своем самостийническом варианте имела существеннейший пробел. Дело приходилось откладывать на будущее: «Факты, возбуждавшие в народе нерасположение к москалям, не были еще ни столько многочисленны, ни столько сами по себе сильны, чтобы образовать в народе такую вражду, какая могла бы сплотить его ко всеобщему восстанию (!!)»[111]. (Вот так: ни больше, ни меньше!).
Но надежда, как говорится, умирает последней: авось, и наступит тот долгожданный день, когда вся Малороссия поднимется в едином порыве всеобщего антирусского мятежа … Скорее всего, именно об этом мечтал старый и больной профессор, завершая свою последнюю историческую монографию. «Мазепа».
* * *
Характеризуя взгляды Костомарова, И.И. Ульянов полагал, что тот в качестве «украинца» проделал определенную эволюцию, избавившись от самостийнического радикализма, если и не полностью, то по крайней мере в некоторых основных пунктах. «Окончательно порвать с украинизмом, которому они посвятили всю жизнь, ни Кулиш, ни Костомаров не нашли в себе сил, но во всей их поздней деятельности чувствуется стремление исправить грехи молодости, направить поднятое ими движение в русло пристойности и благоразумия». «Вытаскивая из своего ученого мышления одну за другой занозы, вонзившиеся туда в молодости, Костомаров незаметно для себя ощипал все свое национально-украинское оперение. Оставшись украинцем до самой смерти, он тем не менее многое подверг очень строгой ревизии… Под старость он перестает приписывать малороссам несуществовавшую у них враждебность к единому российскому государству, перестает возбуждать и натравливать их на него. Политический национализм представляется ему отныне делом антинародным, разрушающим и коверкающим духовный облик народа» [112].
И.И. Ульянов, безусловно, ошибался.
Цитированная нами выше последняя костомаровская монография «Мазепа» (1882) убедительно доказывает: никаких положительных сдвигов во взглядах «украинца» Костомарова не произошло. И в конце жизни все его оценки и выводы вдохновлялись антирусским пафосом «мутного источника», идеологические принципы которого он последовательно внедрял под видом «чистой науки» в души и умы современников.
Не расстался он и со своим «национально-украинским оперением»: работа о Мазепе — кульминационный момент в обосновании им политической доктрины самостийничества, доказательства существования отдельного «украинского народа», не имеющего ничего общего с Русскими.
С этой точки зрения она — достойный венец академической деятельности Костомарова, который в качестве ученого все свои усилия сосредоточил на украинизации малороссийской истории и для достижения поставленной цели не брезговал любыми средствами, в том числе и самыми грязными.
Одним из главных приемов, используемых Костомаровым в этих целях, являлась умышленная терминологическая путаница, когда одни и те же явления одновременно описывались и как «русские», и как «украинские». Документально зафиксированная этническая принадлежность населения Малороссии к Русскому Народу историком открыто сомнению не подвергалась, но умышленно размывалась использованием в отношении его множества наименований. Так, уже на первых страницах книги о Малороссийкой войне (1648–1654), он предупреждает, что речь в ней пойдет о народе, называемом «малоруссами, украинцами, черкасами, хохлами, русинами и просто русскими». [113]
Профессор Костомаров, конечно, знал, что из приведенного им перечня наименований в качестве названия этноса право на существование имело лишь одно — «просто русские». Остальные никогда не имели этнического значения и давно вышли из употребления, это — или уничижительные клички, или временные прозвища, вызванные к жизни случайными, преходящими обстоятельствами, с исчезновением которых они также исчезали. Но самостийника Костомарова «просто русские» не устраивают, ему милее польский ярлык «украинцы» и он фанатично пристегивает его к Русскому населению Малороссии: «украинцы явились на место жительства»; «украинцы выезжали с пушками и ружьями»; Хмельницкий опасался, чтобы «все украинцы не перебрались на новоселье». Вторжение поляков в Малороссию (1652) и снова авторский голос, назойливо вдалбливающий: «украинцы узнают об истреблении соседнего местечка»; «украинцы … не могли спасти своих имуществ» [114]; «король … немало причинил зла украинцам»; «украинцы, сбитые с толку … сами не знали, чего им держаться»; их делят между собой москали и ляхи, «не спрашивая, желает или не желает того украинский народ: ему, этому народу, не только не дают повода лелеять мысль о державной самобытности своего отечества, но даже не позволяют считать себя отличным народом» [115].
Так от произведения к произведению автором планомерно сокращался Русский элемент, а украинский искусственно раздувался и в течение какого-нибудь полувека, от Богдана Хмельницкого до Петра I, население Малой России в костомаровских монографиях окончательно превратилось из Русских в «украинцев», а сама она — в «Украину».
Конечно, понуждаемый необходимостью имитировать «научность» и «объективность», Костомаров должен был изредка цитировать документы, а в них черным по белому писалось, что жители Малороссии — Русские, а не какие-то там польские «украинцы», Он и цитировал, но каждую цитату густо обставлял самостийнической терминологией, призванной, вопреки очевидности, убедить читателя; что речь идет все же не о Русском, а «украинском» народе. Выходило, как в кривом зеркале: в документах — Русские, в авторском тексте — «украинцы».