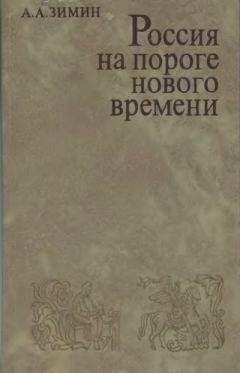Сергей Романовский - От каждого – по таланту, каждому – по судьбе
Написала на имя председателя Литфонда, поэта (!) Н. Асеева, друга Маяковского.
После такого заявления выход один – в петлю.
31 августа 1941 г. Марина Ивановна Цветаева повесилась.
Оставила короткое письмо сыну: «Мурлыга! Прости меня. Но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это – уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить.
Передай папе и Але – если увидишь – что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик».
Сын одобрил шаг «М.И.». Не мамы, а именно М.И. И – одобрил. Даже писать страшно. Если бы Цветаева могла знать такое, повесилась бы много раньше.
Не будем обсуждать, чтó все же довело Цветаеву до этого безумного шага. Всё! Вся ее жизнь. Жизнь на нервах и надломе. Последней же каплей могло быть что угодно: и страх перед приходом немцев (они активно наступали на Москву), и непрерывные скандалы с сыном, и полная (окончательная) ее ненужность никому. Даже Муру. И ему она – в тягость *.
Жизнь осталась позади. Она уже давно жила после жизни.
И последнее. Советская система свое дело сделала. Все семейство Цветаевых она извела под корень.
Але дали 8 лет лагерей. По тем временам – не срок. Потому что «чиста» была. Ее арестовали только для оговора отца. Ну, а потом – не выпускать же. Срок отбывала в Туруханском крае. В 1949 г. ее, как и многих, взяли повторно. Потом реабилитировали. Остаток жизни Аля посвятила увековечению памяти матери. Она писала в своих воспоминаниях: «Мама любила меня дважды в жизни – в раннем детстве и когда я была в тюрьме».
С.Я. Эфрона допрашивали 18 раз. Держался мужественно. Никого не оговорил. От побоев стал терять рассудок. 16 октября 1941 г. его расстреляли.
Мура 26 февраля 1944 г. призвали в армию. 7 июля того же года он погиб.
Осип Мандельштам
«Я – непризнанный брат,
отщепенец в народной семье»
Осип МандельштамОсип Мандельштам был одним из самых «отторгаемых» советской системой поэтов – и при жизни, и после. Первый посмертный сборник его стихов «Воронежские тетради» был опубликован в 1966 г., т.е. почти через сорок лет полного забвения. Неудивительно, что Мандельштама, одного из ярчайших русских поэтов, которого Анна Ахматова и Иосиф Бродский, не сговариваясь, назвали великим, в «народной семье» не знали, он был, что и сам признал, «отщепенцем». Его имя никогда не было на слуху читателя. Только гуманитарная интеллигенция помнила такого поэта, и лишь немногие могли прочесть его стихи наизусть.
Чем это можно объяснить? Только одним. Он писал о том (причем в самое то время!), о чем другие и думать боялись, о чем не говорили даже шепотом, а уж бумаге думы свои крамольные не доверяли никогда.
Мандельштам не был поэтом, обличающим отдельные недостатки системы, как В. Маяковский например, он просто изображал окружающую его жизнь столь «образно», что от этого начинали шевелиться волосы.
Но иногда обличал и он. Тогда поэзия неизбежно уступала место плакату, а энергическая притягательность образов – горечи словесной желчи. Именно таким оказалось его стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…», которое сам автор мог бы с полным основанием посчитать своей «предсмертной запиской». А оно стало самой «сердцевиной его жизненного и творческого пути», да еще и «поэтическим подвигом», как посчитал Никита Струве.
Написал Мандельштам это стихотворение в ноябре 1933 г. И год тот прошел разломом по жизни поэта, расколов ее на две неравновеликие части: до (42 года) и что осталось (5 лет). Именно в том злосчастном году он не смог себя сдержать и на свою погибель изрек ту жуткую истину. Но не ее только. Чуть ранее Мандельштам написал стихотворение «Ариост» с еще более страшной, как считал Иосиф Бродский, строкой: «Власть отвратительна, как руки брадобрея». Это какая же власть? Да наша, любимая, советская. И эк, он ее?!…
Но и это не всё. Именно в 1933 г. Мандельштам написал еще два «расстрельных» по тому времени стихотворения: «Холодная весна. Голодный Старый Крым» (май) и «Квартира тиха как бумага» (ноябрь). Его жена, Н.Я. Мандельштам, вспоминала, что при свидании на Лубянке Осип Эмильевич сказал ей, что самолично в протокол допроса вписал все три текста.
Он шел к этим стихам почти все послеоктябрьские годы, то приближаясь к ним, то отдаляясь. И, наконец, не выдержал. Его просто вырвало этими строками.
Понял сразу – это конец…
Были, само собой, смельчаки и в те годы (они всегда были). Достаточно вспомнить обличающие Сталина и созданную им систему власти записки Мартемьяна Рютина или «Открытое письмо Сталину» Федора Раскольникова. Но то были политические деятели, и отстаивание своей позиции – их профессиональная, если хотите, черта, которая, конечно, и для них обернулась самоубийственным геройством.
Но поэт? Тщедушный человечек с птичьим профилем, имеющий, как писал про него Георгий Иванов, «женственно-слож-ную природу, сотканную из слабости и почти болезненной неуверенности в себе», сотворил то, на что не смог отважиться ни один из его современников, также сполна вкусивших сталинского счастья и также (про себя) оценивавших его режим.
Я.А. Гордин пишет по сути о том же: «Не только историкам литературы, но и социальным психологам еще предстоит думать над загадкой – почему именно Осип Мандельштам, хрупкий, тяжело переживавший бытовые лишения (хотя и встречавший их с достоинством), вовсе не отличавшийся бесстрашием, нестойкий на допросах, рафинированный интеллигент-интеллектуал с измотанными нервами, а отнюдь не собранный политический боец, почему именно он – единственный! – в страшном 1933 году (позади чудовищные преступления власти – голод, подавивший крестьянство, впереди – убийство Кирова и террор), – почему именно он решился бросить открытый вызов Величайшему Палачу Всех Времен и Народов?…»
Многие стремятся еще более детализировать вопрос: уж больно смелым оказался тщедушный поэт, а потому очень хочется выяснить причину (еще лучше – первопричину) этой патологии. Ведь смелость – та черта советской интеллигенции, которая должна (по задумке селекционеров) напрочь отсутствовать у выведенной ими генерации работников, добывающих пропитание за счет своего интеллекта. «Работниками», само собой, были и поэты.
Советскую интеллигенцию сознательно взращивали как новый подвид Homo sapiens – не оппозиционный власти, а лояльный ей, не скулящий от бытовых трудностей, а радующийся всему, не протестующий, а прославляющий. А тут?
Почему все же, задает свой вопрос и Станислав Рассадин, Мандельштам написал пасквиль на вождя? И сам дает три варианта ответа (можно выбирать):
¨ он всё понял про Сталина – молчать было выше сил,
¨ использовал эти строки как орудие самоубийства – жить в тот момент не хотелось,
¨ написал для саморекламы: вот вам – не желали меня признавать как поэта, узнаете и признаете как героя-обличителя.
Я думаю, всё это лишнее. Задавать вопросы поэту, почему он написал то или иное стихотворение бессмысленно. На них и автор бы не ответил. Написал потому, что не мог не написать. Стихи Мандельштам никогда не «писал» в общепринятом смысле, рифмы у него рождались в голове и на бумагу он заносил готовое стихотворение, почти всегда набело, без помарок. Поэтому сдержать то, что рвалось наружу, он был не в состоянии. Не запиши он те строки, они стали бы наваждением, навязчивой идеей, ввергли бы его в бессонницу, а то и того хуже – всё могло кончиться нервным или психическим срывом. А записал, как занозу вытащил.
Н.Я. Мандельштам вспоминала, что стихи у ее мужа «шли от предчувствия катастрофы и зазывали ее. Жизнь помогала этому». Именно такой стиль творчества и стал судьбой поэта. А те стихи лишь сфокусировали ее.
«Зазывание» катастрофы Эмма Герштейн назвала «неизбыв-ной внутренней тревогой» Мандельштама. Поэтому то его стихотворение – не столько поэзия, сколько поступок. Он сам, вероятно, не относил свое творение к высокой поэзии. Поэтому в нем не Я, а МЫ, как и должно быть на шаржированном плакате.
И все же, чтобы разобраться в поэтической судьбе Мандельштама, нам придется, хотя бы схематично, но зато хронологически выверенно, рассмотреть все ключевые моменты его жизни, ибо, как точно подметил Иосиф Бродский, главная тема поэзии Мандельштама – это «тема времени».
Начнем с точки излома. Ноябрь 1933 г. Мандельштам заносит на бумагу, потом рвет ее, строки, от которых самого тут же бросило в холодный пот:
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны, *
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются глазища
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей, **
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.
Как подкову, дарúт за указом указ –
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него – то малина
И широкая грудь осетина.
Как видим, в этом стихотворении желчи больше, чем поэзии. Оно скорее – отчаянная инвектива. Но с отчаяния (или со страха, трудно сказать) прямолинейное обвинение приобрело силу художественного образа, от чего оно в то время воспринималось редкими слушателями со смешанным чувством потрясения, искреннего удивления и чисто животного страха. Те, кому Мандельштам читал свое стихотворение, смотрели на него, как на покойника, и думали только об одном – как бы побыстрее унести от него ноги, забиться в свою конуру и тут же вытравить из памяти то, что только что слышал.