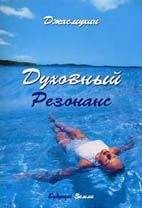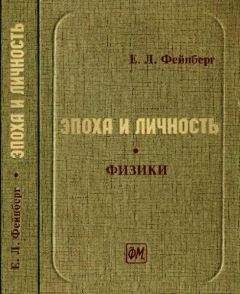Роман Редлих - Сталинщина как духовный феномен
Власть знает это настроение и умеет его использовать. На этом построены многие грубейшие трюки партийной пропаганды, все эти головокружения от успехов, все эти перегибы, все эти искривления генеральной линии партии и головотяпские распоряжения власти на местах. Обыватель всегда готов поверить искренности власти, когда она делает подобные заявления, то есть слово «поверить» здесь не подходит, но для тех процессов, которые происходят в сознании объектов тоталитарного режима еще не найдено подходящих слов, по крайней мере, их нет в нашем распоряжении. «Поверить» это значит убедить поверхность своего сознания в том, что оно верит и в то же время прибавить новый груз к тяжести абсолютного неверия, которое лежит в подсознательном.
К той же категории благочестивого самообмана относятся вздохи: «Вся беда от Сталина, кабы Ленин был жив, все бы пошло по-другому». Что пошло бы по тому же самому, что не могло пойти по-другому, это вздыхающий в глубине души знает прекрасно. Но он отвергает это знание и воображает, что верит, точнее убеждает себя, будто он в самом деле верит.
Сознательность — это в высшей степени своеобразная надстройка над психикой советского человека, значение которой в его жизни огромно. Сознательность — это тот комплекс мыслей, чувств, взглядов, вкусов, убеждений, которые власть считает обязательными для советского гражданина. Это то, что с точки зрения власти для советского человека необходимо и достаточно; что же сверх того, то по меньшей мере подозрительно. Сознательность — это месторазвитие активной несвободы. Власть хотела бы, чтобы внутренний мир советского гражданина исчерпывался сознательностью. Впрочем, она хорошо знает, что это невозможно.
Сознательность — это миллион штампов, миллион грамофонных пластинок, которыми советский человек пользуется с величайшим искусством для демонстрации своей преданности делу Ленин а «Сталина. Если какая-нибудь из пластинок на очередном зигзаге генеральной линии партии оказывается реакционной, она мгновенно выбрасывается вон и заменяется новой. От пластинок требуется одно: чтобы они с абсолютной чистотой отражали партийные лозунги и никак не отражали бы индивидуальности и действительных взглядов их обладателя. Они должны быть безличны, стандартны и ортодоксальны. Они должны проигрываться с видом полнейшей свободы и с интонациями преданности и энтузиазма. Они предназначены для власти и вообще для внешнего мира. Все, что полезно для самосохранения, переносится сюда и автоматически проявляется по мере надобности без участия живых сил личности, не затрагивая ее интимного ядра. Этот самый поверхностный слой сознания, функционирующий автоматически, обеспечивает личности огромную экономию душевных сил. Можно сказать, что благодаря сознательности самый страстный энтузиазм и самая горячая преданность не стоят советскому человеку ничего или очень мало. Сознательность — это защитная оболочка личности, без нее она оказалась бы слишком уязвимой со стороны власти, уподобилась бы человеку с содранной кожей. Сознательность — это чистое достояние личности, но еще не сама личность. От интимного существа личности в сознательности нет ничего.
Сознательность — это сфера активной несвободы. Она имеет некоторые черты внешнего сходства с лицемерием европейского человека, но отличается от него существеннейшим образом. Лицемерие европейца несравненно более невинно. Оно есть именно «та дань, которую порок платит добродетели», оно исходит из чувства приличия. Сталинское лицемерие, напротив, неприлично в высшей степени, и советский человек нередко внутренне стыдится своей сознательности.
Лицемерие европейской культуры создано условиями и предрассудками общества и не представляет собой непреодолимой силы. По крайней мере, протест против лицемерия на Западе не невозможен. Лицемерие сознательности навязано властью и содержание его предписано властью же. Содержание сознательности не может быть отвергнуто, оно является неустранимой силой и всякий протест против него означает гибель. Сознательность служит прежде всего инстинкту самосохранения советского человека. Она — вернейшее средство его защиты от власти. Советский народ отгородился от власти ее же собственными словами. Но этим значение сознательности не исчерпывается. Она идет на потребу власти и способствует укреплению ее положения. Она делает это посредством давления на явный ярус сознания, оперируя при этом не чем иным, как фикциями.
Сознательность функционирует у различных советских людей различно. Есть множество психологических типов; ни один не может целиком освободиться от сознательности, но отношение к ней у различных типов различно. Разнообразие индивидуальностей в СССР можно в этом отношении только грубо свести к трем основньш типам: а) обыватель, б) активист, в) внутренний эмигрант.
а) Обыватель. Можно подумать, что между сознательностью советского обывателя и явным ярусом его сознания должна разверзаться пропасть. Это пропасть между его действительной душевной жизнью, которая вовне не обнаруживается, и фальшивой, которая, наоборот, существует только для внешнего обнаружения, происходящего с чрезвычайной демонстративностью и треском.
Казалось бы, что внутренний мир советского обывателя есть мир глубокого внутреннего раздвоения. На самом деле этого раздвоения нет. Обыватель его счастливо избегает посредством своеобразного приспособления сферы сознательности к явному ярусу сознания. Механика этого приспособления проста. «Социалистический трудовой энтузиазм», напр., это— обязательная фикция. Именно в качестве такой она и включается не в сознание, а в сознательность советского гражданина. Но для явного яруса сознания это включение не проходит бесследно. Человеку, только что перевыполнившему план и принявшему на себя новые социалистические обязательства, человеку, которого только что поздравлял парторг и имя которого красуется на доске почета, человеку, сознательность которого только что толкнула его сказать, что этими достижениями он обязан мудрому руководству правительства, партии и лично товарища Сталина, — стыдно признаться даже самому себе, что он лицемер и лжец, и что все окружающие понимают его неискренность и трусость, толкающую к этой неискренности. Он скажет себе, что так поступают все, что иначе не проживешь (и будет в этом в значительной мере прав), затем, что нельзя же заботиться только о своих личных интересах, что надо приносить жертвы для общего дела, что наша страна разорена войной, что надо быть готовым и к новой войне, потому что… и дальше он уже может черпать сколько угодно аргументов из арсенала хорошо известных ему пропагандных фикций и договориться уже с самим собой до тех формулировок, которые он только что произносил публично и за которые ему в глубине души было стыдно.
Приспособление заключается здесь в том, что фикции, первоначально предназначавшиеся исключительно для сознательности переходят в явный ярус сознания. Переходят они, правда, не в своем первоначальном виде, а в несколько измененном. Для явного яруса сознания это не может пройти бесследно. Фикции давят на него, сжимают его свободу и усваиваются им наконец, пусть даже в измененном, очень измененном виде. В соотвественно измененном виде, в формах, которые человек сам для себя сделал приемлемыми, социалистический энтузиазм проникает в сознание и не может затем не определить в известной степени отношение советского человека к социалистическому строительству и притом определить в сторону, нужную власти. В результате большинство советских людей, несмотря на все оговорки, безусловно убеждено в том, что построенные при Сталине предприятия и на самом деле нужно было строить, что они и на самом деле нужны народу. То обстоятельство, что явный ярус сознания обывателя всячески избегает вступать в решительное противоречие с сознательностью, представляет собой чистый выигрыш для сталинизма.
Конечно, обыватель понимает, что видоизменение фикций, производимое им в целях их приспособления к его сознанию, есть преступление перед советской властью, подлежащее, в случае обнаружения, Суровой каре. Поэтому приспособление это должно оставаться тайной для внешнего мира. Что всегда есть риск раскрытия этой тайны, обыватель опять-таки превосходно понимает. Но этот обман спасает его от беды, гораздо горшей: от невыносимой тяжести внутреннего раздвоения. Внутреннее раздвоение тяжко и опасно тем, что означает ясное осознание себя врагом советской власти. А этого обыватель как раз хочет избежать. Он понимает, какую страшную опасность представляет для него отречение от активной несвободы, хотя бы в самых тайниках души.
Сознательность есть вместилище фиктивной душевной жизни человека. Но это отнюдь не безобидная надстройка, и она отнюдь не отделена наглухо от других сфер духовной и душевной жизни. Наоборот, она и деятельность сознания делает до известной степени фиктивной.