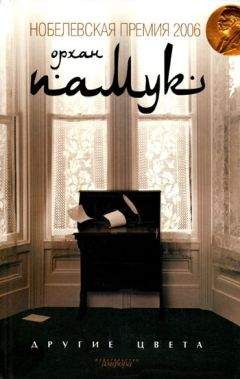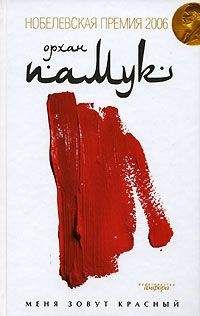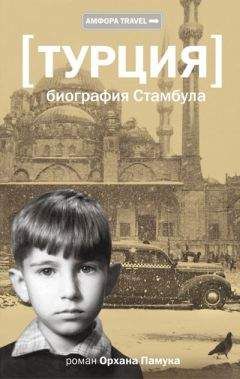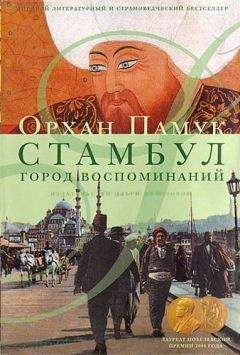Другие цвета (сборник) - Памук Орхан
Почти всего Камю я прочитал в восемнадцать лет, до Достоевского и Борхеса. Отец, инженер-строитель, покупал в Париже книги Камю, выпущенные в 1950-е годы издательством «Галимар», и с удовольствием читал их. Теперь я думаю, что отца привлекала, скорей всего, не собственно «философия абсурда», о которой он пытался рассказать мне, а то, что она зародилась не в мегаполисах Запада — она пришла к нам из мира, похожего на наш, турецкий, своей удаленностью от западной культуры и скромной жизнью с полусовременными, полуисламскими и полусветскими устоями. Мы с легкостью отождествляли себя с этим миром, который благодаря месту действия не принадлежал ни Западу, ни Востоку — в повести «Посторонний», романе «Чума» и некоторых эссе из сборника «Средиземноморский миф», речь шла об улицах, на которых Камю провел детство и молодость, о садах и о солнце. Отца потрясло, что литературная слава пришла к Камю в молодом возрасте, что он нелепо рано погиб в автомобильной катастрофе, которую газеты называли «абсурдной».
Подобно многим, мой отец считал, что прозу Камю отличает потрясающая «аура молодости». Сейчас, спустя много лет, я понимаю, что тема молодости весьма многозначна. Такое впечатление, что Европа в романах Камю очень молода, в ней может произойти все что угодно, она едина — нет раскола между сутью и внешней оболочкой. И когда блестящий писатель, изучивший философию, рассказывает о разгневанном миссионере, об отношениях художника со славой, о том, как хромой человек катается на велосипеде, или о том, как мужчина отправляется на пляж со своей возлюбленной, мы неожиданно для себя замечаем, что на самом деле он очень убедительно рассказывает о том, что есть жизнь и в чем ее смысл. Талант Альбера Камю заключается в его способности, подобно алхимику, придать философский смысл обычным, ничем не примечательным аспектам повседневной жизни. Он вырос, конечно же, на традициях французского философского романа, восходящих к Дидро и Уэльбеку. Своеобразие таланта Камю в том, что он с легкостью объединил эти традиции жанром реалистичного рассказа. Эти рассказы, столь яркие, полные жизни благодаря красочным описаниям автора, можно считать продолжением традиции короткого философского рассказа — от По до Борхеса.
В творчестве Камю поражают два момента: дистанцированность автора от предмета повествования и мягкая манера повествования. Возникает ощущение, что писатель колеблется, не решаясь погрузить читателя в суть происходящего, предоставляя ему возможность самому разбираться. Вероятно, это манера Камю объясняется тяжелейшими проблемами последних лет его жизни. Рассказ «Молчание» начинается словами об уходящей молодости, а рассказ «Художник за работой» повествует о славе и о достижениях в искусстве, которыми Камю наслаждался в последние годы своей жизни, но которые стали слишком большой обузой для него. Но более всего на него повлияла Алжирская война. Камю, алжирец французского происхождения, разрывался между любовью к родной земле и тягой к корням. С одной стороны, он понимал причины недовольства колонизаторами, а с другой стороны, не мог, подобно Сартру, резко критиковать французское правительство, потому что его друзья-французы гибли от бомб арабов-повстанцев — «террористов», как их называла французская пресса, сражавшихся за независимость. И он молчал. В трогательной, полной сочувствия статье, написанной после гибели друга, Сартр проанализировал причины внутреннего кризиса, скрывавшегося за молчанием Камю.
Проблема тяжелейшего выбора, угнетавшего Камю, описана в рассказе «Гость». Этот отточенный по форме и стилю рассказ трактует политику не как самостоятельный и осознанный выбор человека, а как произошедший внезапно несчастный случай, с которым нам приходится смириться. И с этим трудно не согласиться.
Глава 41
ПЕРЕЧИТЫВАЯ ТОМАСА БЕРНХАРДА, КОГДА ВЗГРУСТНУЛОСЬ
Когда мне становится грустно, я перечитываю Томаса Бернхарда. Я не собирался его читать, я вообще не хотел ничего читать: мне было так грустно, что я не мог ни о чем думать. Слова и фантазии людей усугубляли мою печаль, заставляя ощущать собственную ничтожность. Герои книг хвастались своими успехами, утонченностью, интересами, своей образованностью и душевной тонкостью. Их голоса раздавались отовсюду. Мне хотелось убежать от них, потому что, о чем бы ни шла речь в романах — о бале в Париже конца XIX века или о антропологической экспедиции на Ямайку, о бедных окраинах больших городов или о целеустремленности человека, посвятившего жизнь совершенствованию в искусстве, — они рассказывали о людях, переживавших совсем не то, что переживал я. Возможно, я переоценивал свою хандру, но так как я не встречал в книгах ничего подобного, я сердился на них и на себя: на книги я сердился потому, что в них не было и намека на мое болезненное состояние, а на себя — потому, что казался себе глупцом, поддавшимся этим переживаниям. Мне хотелось только одного: как можно скорее избавиться от тоски. Так как книги всегда помогали ориентироваться в жизни и, в большинстве случаев, заменяли мне жизнь, я, пытаясь избавиться от своего отвратительного настроения, убеждал себя, что читать их необходимо. Но, начав читать, я ощущал еще большее одиночество. Книги не утоляли мою боль. Кроме того, мне не хотелось читать, потому что мне казалось, будто они упрекают меня в слабости, свойственной только мне. Поэтому я часто говорил себе, что книги надо не читать, книги надо покупать. И я находил повод избавляться от них — будь то землетрясение или просто раздражение. Так я вел к победоносному концу сорокалетнюю войну с книгами, испытывая отвращение и разочарование.
Кое-что из Томаса Бернхарда я читал именно в таком состоянии. Я не надеялся, что книги Бернхарда мне помогут. Я читал, так как полагал, что их надо прочитать, и я надеялся отвлечься. Один журнал готовил к выпуску специальный номер, посвященный Бернхарду, и меня спросили, не напишу ли я статью. Некогда я очень любил Бернхарда — я должен был отдать старый долг.
Я начал перечитывать Бернхарда, и впервые за время кризиса что-то подсказало мне, что на самом деле моя грусть и мои страдания не столь отвратительны. На страницах романов Бернхарда об этом не было ни слова. Он говорил совершенно о другом: об увлечении фортепианной музыкой, об одиночестве, об издателях или о Гленне Гульде, но я чувствовал, что на самом деле речь идет о моих страданиях и о том, как я к ним отношусь. Проблема заключалась не в самих страданиях, а в моем отношении к ним. Книги Бернхарда стали тогда для меня лекарством.
Так в чем же дело? Что помогало мне исцелиться всякий раз, когда я читал Бернхарда? Наверное, легкое чувство безразличия. Возможно, меня успокаивала философия его произведений, мудро намекавших, что не стоит ждать от жизни слишком многого… Бернхард помог мне понять: надо всегда оставаться верным себе, своим привычкам, своей злости, в конце концов. На страницах произведений Бернхарда высказываются предположения о том, что самое глупое в жизни — это отказ от собственных страстей и привычек ради лучшей жизни; или удовлетворение, испытываемое в процессе бичевания чужой глупости; или внезапное осознание, что без страстей и навязчивых желаний наша жизнь пуста.
Я знаю, что все попытки что-либо сформулировать бессмысленны, и не только потому, что в книгах Бернхарда сложно найти фрагмент или строку, напрямую подтверждающие мои выводы… Возвращаясь к ним всякий раз, я понимаю, что его произведения исключают упрощение. Но одно я могу сказать с уверенностью: в книгах Бернхарда меня привлекает не их основополагающая идея или структура. Мне нравится просто быть там, среди строк, на страницах, ощущать ярость, что не ведает границ, и разделять ее. И любая книга написана именно ради этого ощущения, этого счастья, дарованного нам литературой.
Глава 42
МИР РОМАНОВ ТОМАСА БЕРНХАРДА
История предубеждений и предрассудков, существующих в мире литературы, насчитывает более двух тысячелетий, а в период между двумя мировыми войнами в употребление вошел термин «экономичность», который до сих пор занимает ведущие позиции в небогатых словарях литературных критиков. Законодателями этого литературного стиля по праву считаются американские писатели, среди которых Хемингуэй и Фиццжеральд: считалось, что настоящий писатель должен уметь писать кратко, обходиться минимумом слов и не допускать повторов.