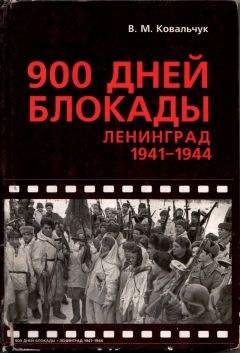Сергей Кургинян - Суть времени. Цикл передач. № 31-41
Тогда фалангисты посадили его под домашний арест. Где он и сидел достаточно долго. Его не убили, ибо он был очень почитаем в качестве консерватора, но они поняли, что он чужой.
Вот Унамуно почувствовал себя чужим потому, что прозвучало восклицание: «Да здравствует смерть!» Когда многие говорят о фашистской свастике, то не обращают внимания на то, что это левосторонняя свастика, а не правосторонняя свастика, которая раскручивает спираль жизни. Это левосторонняя свастика, которая её скручивает. А это очень важно с точки зрения метафизики фашизма.
Итак, внутри этой эмерджентности и этой теории развития, и этого ощущения того, что у развития есть враг, и что этот враг обладает колоссальной мощностью, что это онтологический, метафизический враг, что это не заблуждение, не косность и не неправильная организация чего бы то ни было, а это фундаментальный, окончательный враг, с которым надо воевать вечно… Вот эта мобилизующая сила красной метафизики оказывается созвучна современным физическим теориям, теории превращения Маркса, теории Танатоса Фрейда, теории противодействия энтропии и второму закону термодинамики.
В конечном итоге тут речь идёт о новой науке — науке, потерявшей свою деидеологизированность, свою чисто гносеологическую невинность; науке, которая мыслит не только категорией истины (хотя она, конечно же, не перестаёт мыслить этой категорией), но науке, которая ещё мыслит и категорией спасения. У науки возникает высшая миссия.
И в этом смысле наука, сама меняя своё качество, превращается в парарелигию. Она оказывается в состоянии, при котором она может строить полноценный диалог с религией, ибо и внутри религии существует метафизическое ядро, и внутри такой науки тоже возникает светское метафизическое ядро. Оно возникает вместе с ощущением завораживающей силы тьмы и, одновременно, с ощущением своей ответственности за то, чтобы противостоять этой силе при всей её мощности, при всём её сокрушительном качестве.
Вот противостоять — и всё.
В своей книге «Исав и Иаков» я обращаю внимание на интуицию чего-то подобного и у Экзюпери в его «Ночном полёте», который, в сущности, всё время посвящён этой интуиции какой-то вот такой бесконечной, охватывающей всё тьмы, и весьма умному и талантливому человеку, который для меня совсем не является блестящим писателем, но как исследователь, как мыслитель, конечно, это человек очень серьёзный — Ивану Ефремову с его ощущениями звездолёта, который, наконец, выходит за грань вселенной. И он сталкивается с абсолютно другой тьмой. Не обычной тьмой звёздного неба, а тьмой другого качества. Звездолёт, кстати, называется «Тёмное пламя», если мне не изменяет память.
Вот, наконец, наука, выходящая в это рыцарственное качество, при котором она ощущает себя воином, сражающимся против какой-то невероятно мощной силы, воином, который воюет за спасение, а не просто за истину — вот эта новая наука становится не только производительной силой, она приобретает культурообразующее качество.
Катастрофа модерна обусловлена тем, что у модерна не было культурообразующей силы. Как только модерн разделил внутри себя всё на гносеологию, этику и эстетику, т. е. на истину, справедливость (право) и красоту, — как только модерн внутри себя разделил всё таким образом, он утратил культурообразующий огонь.
Не случайно в нашем языке есть слово «культ» и «культура». В ядре любой культуры находится метафизика.
Вот здесь ядро — а вот здесь гигантская оболочка.
Модерн прекрасно жил до тех пор, пока он мог в условиях этого остывания опираться на христианскую культуру, которая не исчезала вместе с отказом модерна от христианства, как системообразующей оси. Но потом вдруг оказалось, что культура остывает слишком быстро.
Модерн рухнул в бездну декаданса, в то, что потом и стало постмодерном.
Поскольку светского человека никуда деть невозможно, то весь вопрос не в том, чтобы воевать против светского человека, а в том, чтобы воевать за него, противопоставив человека светского и метафизического — и человеку светскому и лишённому метафизики.
Человек светский и лишённый метафизики — дитя модерна.
Человек светский, имеющий метафизику, — это уже не модерн.
Если наука преобразует самоё себя, оставаясь, разумеется, при этом наукой, если она вернёт себе синтетическую силу и сохранит при этом гносеологический потенциал, — вот такая новая наука начнёт процесс нового культуротворчества.
На сегодня очень слабыми и компрометирующими эту идею симптомами чего-то подобного является научная фантастика и всё прочее. Это жалкий лепет по отношению к тому, что должно быть в случае, если наука действительно всерьёз собирается обрести новую силу, свою метафизику, свою мистерию, свою полноту.
В этом качестве наука преодолеет эту дифференциацию на «истинное», которое не может быть «прекрасным» и «добрым»; на «доброе», которое не обязано быть «истинным» и «прекрасным»; и на «прекрасное», которое не обязано быть «истинным» и «добрым». Возникнет новый синтез.
Об этом синтезе мечтали всегда. Никогда наука внутри себя не теряла надежду на другую ипостась — на ту ипостась, которая вернёт ей синтетическую силу.
Но сейчас возникает новая возможность для всего этого.
Если в донаучном начале существовал миф, внутри которого как раз осуществлялся синтез прекрасного, справедливого и истинного, то потом всё это разошлось. И, возможно, сейчас оно сойдётся снова в новой точке, в точке новой научности. Вот тогда здесь возникнут новые шансы для человечества. В противном случае всё скатится к мифу, а значит к фашизму.
Вопрос не в том, чтобы скатиться сюда, вопрос в том, чтобы подняться в это новое качество. Если в это качество удастся подняться, то в ядре нового проекта будет находиться именно тот Сверхмодерн, который будет основан на метафизически обусловленной науке — на науке сверхнового времени. Тогда четвёртый проект возможен. Ибо сила проекта не в том, что он предлагает человечеству некие ответы на его — человечества — обычные вопросы. Ответы на обычные вопросы предлагают программы, концепции, теории, учения. Проект предлагает другое. Проект предлагает один-единственный ответ на какой-то супервызов, на какое-то суперобстоятельство. Он действительно меняет кардинально взгляд на всё сразу. И вот в этой своей новизне он начинает пересборку модели мира, пересборку человека, пересборку всего на свете.
В этом смысле постмодерн говорит о том, что всё это просто не нужно. И этого не может быть — он отказывается от метафизики, отказывается от подлинности, отказывается от человека, от всего.
Контрмодерн пытается вернуть человека к религии, причём, к религии, лишённой гуманистического потенциала.
Модерн цепляется за классический гуманизм и классического человека.
А сверхмодерн действительно грезит и о новом гуманизме, и о новом потенциале развития, и о новом огне метафизической страсти. И здесь он вполне протягивает руку религии.
И тогда осуществляется тот синтез, о котором грезили очень и очень многие — исчезает это противопоставление на кондовых атеистов и столь же кондовых верующих. Возникают возможности если не метафизического синтеза (что абсолютно необязательно), то, по крайней мере, метафизического диалога. И об этих возможностях, а также окончательных чертах четвёртого проекта, опирающегося на сверхмодерн, мы поговорим в следующих выпусках нашей программы.
Выпуск 36
Если внимательно всматриваться в происходящие процессы, то может показаться, что Россия уже прошла точку невозврата; что процессы настолько скверные, что их вообще невозможно переломить; что все силы, которые способны были бы теоретически обеспечить подобный перелом, слишком слабы, а других сил нет и неоткуда им взяться… Что если регресс уже удалось осуществить, то надо сливать воду, потому что выход из регресса в принципе невозможен. И так далее…
Я подчёркиваю, может показаться…
И на самом деле ситуация находится в страшной близости к чему-то подобному. Ещё несколько шагов и мы должны будем говорить не о том, что нечто может показаться, а что нечто свершилось.
Но оно ещё не свершилось. Почему и в каком смысле? Не в том смысле, что внутри нашей жизни возникает некая новая свежая политическая струя, которая сейчас триумфально начнёт преодолевать процессы. Ничего подобного нет.
Есть нечто другое, одновременно никоим образом не говорящее о том, что нам гарантирован выход из нынешней ситуации. И, вместе с тем, это другое (подчёркиваю, не дающее нам никаких гарантий) содержит в себе нечто большее, чем эти гарантии. Оно содержит какой-то высший, очень простой человеческий и, одновременно, почти метафизический шанс.
Подобного рода вещи улавливаются не классическим научным методом, который всегда строится на том, чтобы идти ко всё большей и большей абстракции — от частного к общему, оперировать некими понятиями и внутри этих понятий, наконец, построить модель, увидеть, что модель работает и обрадоваться тому, что ты от видимости перешёл к сущности. Этот метод очень важен, он очень интересен, он до сих пор остаётся основным, но таким методом невозможно схватить что-то, в чём, как мне кажется, есть наш единственный шанс сегодня.