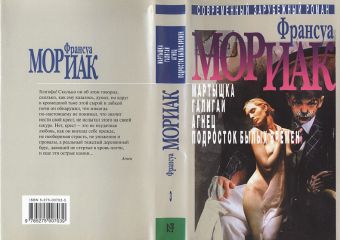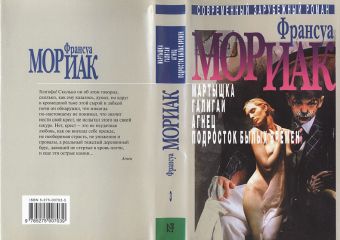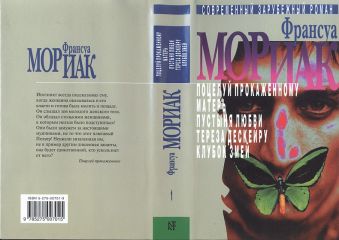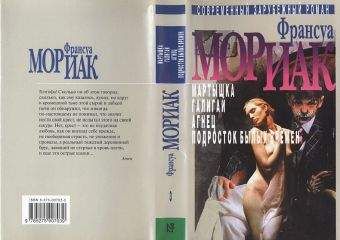Франсуа Мориак - He покоряться ночи... Художественная публицистика
Один молодой поэт, Марк Алин *, сравнивает ту пору жизни, в которую я вступил, с большим домом, светящимся огнями в ночи — и вот гаснет одно окно, потом другое: последнее стихотворение, последний роман, последняя пьеса. Издали кажется, что дом погрузился во мрак и тишину.
Однако в нем по-прежнему горит огонь, по-прежнему бьется сердце. Он полон образов прошлого, он внимает своей собственной истории. Тем не менее придется мне делать вид, что я слушаю истории других людей, а я хотел бы не думать ни о чем, кроме того, что я существую сейчас и здесь. Свет в комнатах погас. Труд окончен, но жизнь продолжается, и вопрос, поставленный жизнью, остается неразрешенным. Конечно, я дал какой-то ответ своим творчеством, но было ли то подлинным ответом?
Из стихов моих любимых поэтов мне достаточно того, что хранит моя память: строки из Бодлера, строфы из «Созерцаний *» — этих нетленных раковин, которые волна выбросила на мой берег и уже не унесет обратно, и еще — короткой горькой фразы Виньи, вечно соленой от слез утраченного детства:
Бог Термин — как и он, застыли мы на грани *.
Я переделываю эту строку из «Дома пастуха» на свой лад:
Человек у черты словно Термин-бог.
Этот бог встает уже не в конце сада, но между небом и землей, на последней дюне.
Море, которое бьется у меня в груди, прилив и отлив... Если бы этот гул, этот шепот не сопровождал меня уже много лет, я бы испугался, услышав его теперь. Это море, грохочущее внутри меня, властно напомнило бы мне о пути, который предстоит мне, быть может, очень скоро, о ладье, которая ждет меня. Но вышло иначе: я привык к этому гулу. Я так сроднился с ним, что больше его не боюсь. Ребенком я не боялся раковины, где прятался этот стон. «Послушай море», — говорили мне. Я прижимал раковину к уху и слышал рокот волн. Теперь, чтобы услышать прилив и отлив, мне не нужна раковина.
Впрочем, тот ли самый рокот звучит у меня в ушах? Пожалуй, этот образ не вполне точно передает то, что свершается в тайниках моей души. Нет, не море рокочет во мне. Скорее, это воспоминание о том, как шелестела трава на летнем лугу много лет тому назад. Во мне звучат не волны, лижущие дюны, а несмолкающий хор сверчков и кузнечиков — все то, о чем Жамм сказал:
Пожар цветущих трав поет во мне.
Я услышал звон цикад; начала одна, ей откликнулась другая, потом третья... Я стоял не шевелясь на раскаленном крыльце, такой жалкий в своей соломенной шляпе; была немыслимая жара. Мне сказали: «Раньше четырех не выходи. Все живое попряталось. Постарайся уснуть». Но я не послушался, я переступил запретный порог, проник в пекло — и вдруг услышал цикаду. Я ее и сейчас слышу.
Да, это она самая. Дыхание земли опаляет мне лицо. Я жадно вдыхаю запах болота. Странно, что теперь, в старости, я больше не чувствую летом, что воздух вокруг меня дрожит. Но кровь моя помнит об этом зыбком мареве и отзывается на него.
Я утратил связь с живой природой. У меня уже не бывает приступов бурной радости. Чтобы расслышать тот несмолкающий шепот, мне надо отыскать его в памяти; чтобы испытать эту радость, мне надо ее вспомнить, прибегнуть к тому, что сейчас называют «шумовым оформлением» — им служит мне не что иное, как ток моей крови.
Я говорю себе: это чудо никогда не существовало, оно — мое создание. Ребенок, который стоит не шевелясь на раскаленном крыльце, — ты его придумал только сейчас. Твоя старость созидательна, она осуждена на творчество: разлученная с миром сущим, она старается догнать мир ушедший. Но догнать его — значит изобрести заново. Шум у меня в ушах озвучивает луга моего детства, которые оглушали меня своим несмолкающий хором. Так в вагоне поезда стук колес сливается с симфонией, которая звучит в моей памяти, или вторит стихотворению, которое я вспоминаю, а быть может, и сочиняю.
Созвучен ли шум, с которым течет моя жизнь (ибо тишины не существует: жить — значит барахтаться на середине журчащего потока, который остановит только смерть), созвучен ли этот гул во мне любой странице партитуры, если прожитую мною жизнь можно сравнить с партитурой? Или, наоборот, этот внутренний гул созвучен только тому шелесту, каким давно-давно встречали меня послеполуденные луга, и связь эта неизбежна? Нет, я не настолько глуп, чтобы так думать. Если шорох жизни сливается у меня в ушах с шумом дремлющей природы, которая спит и видит сны, это означает только одно: минуты, проведенные когда-то во втором часу пополудни на залитом солнцем крыльце, были самыми важными для ребенка, которым я был, и для мужчины, которым стал; потому-то их тема и звучит сегодня громче всех других: я осваивал землю, я жил одной жизнью с растениями, я постепенно проникал в тайну, которая навсегда останется недоступной для городских детей.
Если городской поэт, даже самый великий (я имею в виду Бодлера; впрочем, у него порты и каналы, реки и моря играют ту же самую роль, какую у других — девственная природа), не провел детство в деревенском доме, я сразу чувствую, что ему неведома тайна, которая открылась мне более шестидесяти лет назад. Если за свою жизнь мне и удалось завоевать души некоторого количества верных и внимательных читателей, то лишь потому, что я выразил в скудных словах хоть ничтожную долю этой тайны.
Когда мне случалось с жалостью сказать о ком-либо из товарищей: «У него нет своей земли...», то во мне говорила не буржуазная спесь, но чувство гордости — я гордился тем, что мне повезло и я имею доступ к чуду, которое для других за семью печатями.
С возрастом из этого рая был изгнан и я: в опустевшем парке, куда я изредка прихожу по старой памяти, лужайки превратились в болота, цикады умолкли. Я слышу в ветвях, очень высоко над головой, стоны — что это, ветер? Не знаю, не поручусь. Быть может, это плачут в моем сердце мертвые сосны со сгнившей сердцевиной, поваленные осенними бурями за эти шестьдесят лет, и их стенания сливаются с шумом моей крови, бьющейся о какой-то неведомый риф. [...]
Глава IV
[...] Конечно, я продолжаю писать, так же как продолжаю дышать; и пока сердце мое будет биться, а мозг — работать, привычные слова (ведь мы всегда изъясняемся одними и теми же словами и если бы знали их число, то удивились бы, до чего оно ничтожно) будут слетать с кончика моей авторучки еще до того, как я их кликну, — верные слуги, они знают мои привычки и причуды: ритм, и размер, и созвучия — весь тайный устав, все правила, которым я их подчинил.
Не успею я обдумать страницу, как она ложится передо мной, уже написанная. Я в жизни не владел пером так, как сегодня, когда оно пишет едва ли не само. Литератор-профессионал, каковым я являюсь, уже не думает о своей профессии. Да и где он, этот литератор? Вслед за романистом он исчез за кулисами моей жизни. Остается старый человек, который ничего уже не пытается совершить, ничего не стремится сочинить, который смотрит на себя и слушает себя, словно ожидая, что в сумерках, которые с каждым часом сгущаются, на кончике пера, занесенного над чистой страницей, вот-вот забрезжит разгадка. Вот почему я так легко обхожусь без того, что еще недавно было необходимым посредником между моим «я» и моим «я»: чтения.
Первые «Страницы моей внутренней жизни» — это история о том, как любимые произведения помогают осознать самого себя. Теперь мне хочется убрать с глаз долой эти мутные зеркала, где уже не видно моего лица; ибо лицо, которое по-прежнему живет в них — лицо двадцатилетнего мальчика, — стало мне чужим. Это тому юноше, а не мне, литература казалась зачарованным замком с лабиринтом коридоров; он бродил по нему из комнаты в комнату, и в каждой, абсолютно в каждой была своя спящая царевна. Сегодня для меня все царевны мертвы. Мне уже не разбудить их.
Те, кто прожил жизнь рядом со мной, могут пожать плечами: «Да разве книги не окружали вас всю жизнь! Да разве вы хоть когда-нибудь переставали читать!» На первый взгляд я действительно продолжаю читать, да и писать тоже. Но меня уже не волнуют описываемые события, я ни на секунду не забываю, что эти трагические маски — только маски. Люди, помешанные на театре, кажутся мне помешанными в буквальном смысле слова. Актеры — безумцы.
Я сказал, что все царевны умерли. Да-да, я спрашиваю себя, не вернулась ли в небытие даже Федра? Иначе почему все актрисы, которые тщатся оживить ее, кажутся мне смешными? Все трупы всех последних актов, воскресавшие всякий раз, как я смотрел спектакль или читал пьесу, лежат теперь вокруг меня, и никакая сила не способна вернуть их к жизни. [...]
Когда мне было десять лет, я считал «Камизаров» некоего Александра де Ламота шедевром по причинам, которых мне теперь не понять. Но уже в девятом классе я заметил, что учитель несправедлив, что самые лучшие оценки он ставит кудрявым мальчикам, а моя стриженая голова ему не по душе. «Мужчине красота ни к чему» — это золотое правило плохо утешало нас, когда, смиряя нашу гордыню, нам внушали, что мы уроды. Зато детям так нужно быть хорошенькими! Это открытие я сделал самостоятельно, когда мне было семь лет.