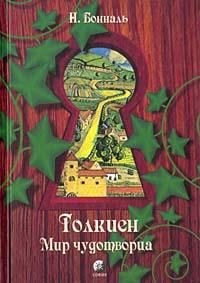Никола Бональ - Толкиен. Мир чудотворца
И так — на протяжении многих–многих страниц. Все это еще больше убеждает наших хоббитов, что они и впрямь забрели в самые гиблые края во всем свете. Правда и то, что их поход, в сравнении с ратными подвигами Пиппина и Мерри, дело на редкость неблагодарное и изнурительное. Из них троих больше всего достается Фродо: он смертельно устал и почти всю дорогу плетется в хвосте, покуда спутники его выбирают верную стезю в лабиринте едва различимых троп. А между тем кругом простирается сплошная топь: «окна, заводи, озерца, раскисшие русла речушек… Это было нудно и утомительно. Зима с ее мертвенным, цепким холодом еще не отступилась от здешнего захолустья».
Даже сноровистый Горлум порой теряется — не может отыскать верную дорогу. Так, постепенно «они забрели в самую глубь Гиблых, или Мертвецких, Болот, и было уже темновато». Дальше Толкиен дает еще одно описание обрывистых стен Мордора. Путники уже брели по безотрадной, сумрачной бугристой равнине, больше похожей на неоглядное заброшенное кладбище, — символ долгого, мучительного сошествия в преисподнюю, внешние пределы которой обозначились в виде Мертвецких Болот.
Пришествие в Мордор характеризуется в начале главы 3 тома 4 своеобразной фонетической поляризацией:
«С запада Мордор ограждает сумрачная цепь Эфель–Дуата… а с севера — пепельно–серый, обветренный хребет Эред–Литуи..»
Далее Толкиен упоминает скорбные равнины Литлада и Горгорота — последнее название созвучно с библейской Голгофой, — Ущелье Привидений Кирит–Горгор и, наконец, Клыки Мордора. Ну а за всем этим громоздится крепость Барад–Дур…
К мытарствам двух хоббитов и Горлума мы еще вернемся — в главе «Изысканный ужас». В самом деле, далеко не всякий писатель смог бы так мастерски создать обстановку страха, перерастающего в леденящий ужас, вызванный будто не самим автором, а природой, словно она внезапно переродилась, сделавшись в одночасье до омерзения неприглядной. Это тем более ощутимо на фоне loca amoena — дивных, благих мест, что встречались нашим странникам на их долгом пути. Приведем здесь примечательные в этой связи слова Фродо:
«Он [Бильбо] часто повторял, что на свете всего одна Дорога, что она как большая река: истоки ее у каждой двери, и любая тропка — ее проток».
Фродо пока еще не улавливает до конца смысл дядюшкиных слов: ведь он еще только в начале своего пути и пока только раз столкнулся с одним из Черных Всадников. Но он уже предчувствует чарующую магию Дороги, ибо для него она становится сродни Судьбе. И если в нашем мире все дороги ведут в Рим, то в мире Толкиена, они непременно ведут к Кольцу.
Loca amoena (напомним — дивные места), через которые пролегает путь героев «Властелина Колец», заключают в себе важную символику — она имеет прямое отношение к риторической традиции, восходящей к тем стародавним временам, когда странствующие поэты состязались меж собой в красноречии — вернее, в умении живописать чарующую прелесть природы. История живописания подобных loca amoena начинается с легенд о короле Артуре, вдохновлявших многих писателей и поэтов, очарованных Средневековьем и героической рыцарской эпохой.
Страсть к приключениям неумолимо влечет рыцарей, сподвижников Артура, в отрадные уголки, где они переживают самые возвышенные чувства, которые можно испытать разве что в священные мгновения Богоявления. Традиционная литература всегда опиралась на религиозные традиции, в которых воспеваются райские кущи, благоухающие диковинными цветами сады наслаждений, порожденные в человеческом сознании ностальгическими воспоминаниями о первозданной чистоте потерянного рая (чтобы это себе представить, достаточно обратиться к трудам Мирчи Элиаде). В романах артуровского цикла, в частности тех, что вышли из–под пера Кретьена де Труа, описания подобных благодатных мест встечаются сплошь и рядом.
Вот что говорил по этому же поводу Роберт Курциус, большой знаток темы «locus amoenus» в западной литературной традиции:
«Из всех живописаний природы, воспетой Гомером, его последователи позаимствовали несколько сюжетов, ставших со временем основой великой традиции: край вечной весны, где после смерти нам суждено вкушать нескончаемое блаженство; чарующий пейзаж, сочетающий в себе деревья, водные источники и лужайки, диковинные лесные чаши; цветочные ковры–поляны. Начиная с Овидия поэзия зиждется на риторике. Описание пейзажей становится у него и его последователей упражнением в изысканности и утонченности… при том, что у самого Овидия каноническая тема блаженного леса претерпевает всевозможные изменения: к примеру, если у него где–нибудь встречается роща, то она не просто стоит — а вдруг вырастает перед нашим взором».
Однако давайте вновь обратимся к Толкиену и посмотрим, как он описывает, или, точнее, создает совершенную действительность — с деревьями, реками и лесами. Возьмем, для примера, эпизод, кода Сэм выводит своего хозяина Фродо, оправившегося после смертельного ранения, на прогулку по эльфийскому Разделу:
«Они миновали множество переходов, спустились по нескольким пологим лестницам и вышли в огромный тенистый парк, разбитый на высоком берегу реки… В долине за рекой уже сгущались сумерки, но далекие пики восточных гор еще освещало заходящее солнце. Предвечерний сумрак был прозрачным и теплым, звучно шумел отдаленный водопад, а воздух был напоен ароматами цветов, запахом трав и свежей листвы, как будто здесь, в парке у Элронда, остановилось на отдых отступающее лето».
Дивный сад, шумящий водопад, деревья и цветы — все это и есть составляющие элементы locus amoenus.
И вот чудный Раздол того и гляди накроет грозная Тьма. Loca amoena подобны звездам, меркнущим под покровом сумеречных туч. Раздол — одна из последних «светлых обителей», пока еще не тронутых неумолимо надвигающимся Черным воинством, подвластным Саурону. К числу последних loca amoena относится и маленькая Хоббитания. Впрочем, вот какой разговор обо всем этом ведут Фродо и Гэндальф — первый спрашивает, а второй, стало быть, отвечает:
«А Раздол? А эльфы? Над ними–то он (Саурон — перев.) не властен? — Сейчас — нет. Но если ему удастся покорить весь мир, не устоят и эльфы. Многие эльфы — хотя отнюдь не все — страшатся воинства Черного Властелина, им приходится отступать перед его могуществом… однако он уже никогда не сумеет заставить их подчиниться или заключить с ними союз. Мало того, здесь, в Разделе, до сих пор живут его главные противники, почти такие же могучие, как он, — я говорю о Преображающихся эльфах, древних владыках Эльдара–Заморского. Они не боятся Призраков Кольца, ибо рождены в Благословенной Земле, а поэтому им доступен и Призрачный Мир».
Далее Гэндальф с горечью замечает:
«Словом, в Разделе отыщутся силы, способные на время сдержать врага, — да и в других местах такие силы есть, даже у вас, в мирной Хоббитании. Но если течение событий не изменится, свободные земли превратятся в островки, окруженные океаном Черного воинства — его собирает Властелин Мордора…»
Слово «островки» представляет для нас интерес постольку, поскольку на кельтском языке оно означает труднодоступные места, таящие нечто сокровенно–первозданное, сокрытое от мира живых людей. Но, даже невзирая на грядущую угрозу, как в данном случае, Фродо забывает про жестокие битвы и всецело отдается счастливой прогулке одинокого мечтателя…
«На другой день, проснувшись с рассветом, Фродо, превосходно отдохнувший и бодрый, решил прогуляться по берегу Бруинена. Когда он оделся и вышел в парк, из–за отдаленной горной гряды встало огромное, но неяркое солнце, в воздухе серебрились осенние паутинки, на листьях мерцали капельки росы, а над речкой таяла предрассветная дымка. Сэм молча шагал с ним рядом.., удивленно разглядывая далекие горы, покрытые сверкающими снежными шапками».
Во время паузы в повествовании о странствиях locus amoenus источает покой, наполненный таинственными звуками, которые навевают нам, читателям, воспоминания о благодатных библейских местах, чарующих островах кельтского мира или толкиеновского Валинора:
«Солнечное утро разгоралось в день, под берегом мерно шумела река, небо звенело птичьими трелями, и Фродо показалось, что его злоключения, так же как разговоры о грозной туче, встающей над миром, приснились ему — слишком спокойным, ясным и ласковым было это осеннее утро…»
Locus amoenus предстает здесь как некий образ, возникший из внутреннего мира мудреца, который достиг высшего блаженства, сумев полностью абстрагироваться от мира внешнего. Нечто подобное можно наблюдать и в «Сильмариллионе» — во время сотворения Гондолина, Потайного Града, или Дориата, Потайного царства. Эти возвышенные оплоты не так–то просто обнаружить, а осквернить — и подавно. Однако по законам Скончания Веков и круговорота жизни и смерти они обречены. Все имеет свой конец, говорит Толкиен, и утешение, хоть и мало–мальское, лишь в том, что все имеет продолжительность: