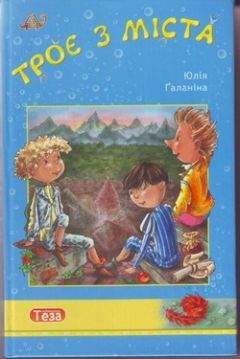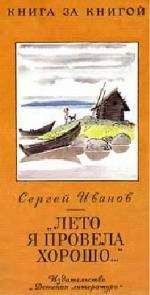Лев Троцкий - История русской революции. Том II, часть 1
История возвышения Керенского полна поучительности. Министром юстиции он стал благодаря февральскому восстанию, которого он боялся. Апрельская демонстрация «восставших рабов» сделала его военным и морским министром. Июльские бои, вызванные «немецкими агентами», поставили его во главе правительства. В начале сентября движение масс делает главу правительства еще и верховным главнокомандующим. Диалектика соглашательского режима и вместе с тем его злая ирония состояли в том, что давлением своим массы должны были поднять Керенского на самую высшую точку, прежде чем опрокинуть его.
Презрительно отмахиваясь от народа, давшего ему власть, Керенский тем более жадно ловил знаки одобрения образованного общества. Еще в первые дни революции вождь московских кадетов доктор Кишкин рассказывал, вернувшись из Петрограда: «Если бы не Керенский, то не было бы того, что мы имеем. Золотыми буквами будет записано его имя на скрижалях истории». Либеральные хвалы стали одним из важнейших политических критериев Керенского. Но он не мог, да и не хотел сложить просто свою популярность у ног буржуазии. Наоборот, он все больше входил во вкус потребности видеть все классы у собственных ног. «Мысль противопоставить и уравновесить между собой представительство буржуазии и демократии, – свидетельствует Милюков, – не чужда была Керенскому с самого начала революции». Этот курс естественно вытекал из всего его жизненного пути, пролегавшего между либеральной адвокатурой и подпольными кружками. Почтительно заверяя Бьюкенена, что «Совет умрет естественной смертью», Керенский на каждом шагу пугал своих буржуазных коллег гневом Совета. А в тех нередких случаях, когда лидеры Исполнительного комитета расходились с Керенским, он стращал их самой страшной из катастроф: отставкой либералов.
Когда Керенский повторял, что не хочет быть Маратом русской революции, это означало, что он отказывается применять суровые меры против реакции, но отнюдь не против «анархии». Такова, впрочем, и вообще мораль противников насилия в политике: они отвергают его, поскольку дело идет об изменении того, что существует; но для защиты порядка не останавливаются перед самой беспощадной расправой.
В период подготовки наступления на фронте Керенский стал особенно излюбленной фигурой имущих классов. Терещенко рассказывал направо и налево о том, как высоко наши союзники ценят «труды Керенского»; строгая к соглашателям кадетская «Речь» неизменно подчеркивала свое расположение к военному министру; сам Родзянко признавал, что «этот молодой человек… с удвоенной силой каждый день воскресает для блага родины и созидательной работы». Такими отзывами либералы хотели заласкать Керенского. Но и по существу они не могли не видеть, что он работает на них."…Подумайте, – спрашивал Ленин, – что было бы, если бы Гучков стал отдавать приказы к наступлению, расформировывать полки, арестовывать солдат, запрещать съезды, кричать солдатам «ты», называть их «трусами» и т. д. А Керенский эту «роскошь» может себе еще позволить, пока он не прожил того, правда, головокружительно быстро тающего доверия, которое народ отпустил ему в кредит…"
Наступление, поднявшее репутацию Керенского в рядах буржуазии, окончательно подорвало его популярность в народе. Крах наступления был, по существу, крахом Керенского в обоих лагерях. Но поразительное дело: «незаменимым» его делала отныне именно его двухсторонняя скомпрометированность. О роли Керенского в создании второй коалиции Милюков выражается так: «единственный человек, который был возможен», но, у вы, «не тот, кто был нужен»… Руководящие либеральные политики никогда, впрочем, не брали Керенского слишком всерьез. А широкие круги буржуазии все больше возлагали на него ответственность за все удары судьбы. «Нетерпение патриотически настроенных групп» побуждало, по свидетельству Милюкова, искать сильного человека. Одно время на эту роль выдвигался адмирал Колчак. Водворение сильного человека у кормила «мыслилось в ином порядке, чем порядок переговоров и соглашений». Этому нетрудно поверить. «На демократизм, на волю народную, на Учредительное собрание, – пишет Станкевич о кадетской партии, – надежды были уже брошены: ведь муниципальные выборы по всей России дали подавляющее большинство социалистам… И начинаются судорожные поиски власти, которая могла бы не убеждать, а только приказывать». Точнее сказать, власти, которая могла бы взять революцию за горло.
В биографии Корнилова и в свойствах его личности нелегко выделить черты, которые оправдывали бы его кандидатуру на пост спасителя. Генерал Мартынов, бывший в мирное время начальником Корнилова по службе, а во время войны разделявший с ним плен в одном из австрийских замков, характеризует Корнилова такими словами: «…Отличаясь упорным трудолюбием и большой самоуверенностью, он, по своим умственным способностям, был заурядным средним человеком, лишенным широкого кругозора». Мартынов записывает в актив Корнилову две черты: личную храбрость и бескорыстие. В той среде, где прежде всего заботились о личной безопасности и нещадно воровали, эти качества бросались в глаза. Стратегических способностей, прежде всего способности оценить обстановку в целом в ее материальных и моральных элементах, у Корнилова не было и в помине. «К тому же ему недоставало организаторского таланта, – говорит Мартынов, – а по запальчивости и неуравновешенности своего характера он был вообще мало способен к планомерным действиям». Брусилов, наблюдавший всю боевую деятельность своего подчиненного за время мировой войны, отзывался о нем с полным пренебрежением: «Начальник лихого партизанского отряда – и больше ничего». Официальная легенда, которая создана была вокруг корниловской дивизии, диктовалась потребностью патриотического общественного мнения находить светлые пятна на мрачном фоне. «48-я дивизия, – пишет Мартынов, – погибла лишь вследствие безобразного управления… самого Корнилова, который… не сумел организовать отступательное движение, а главное, неоднократно менял свои решения и терял время…» В последний момент Корнилов бросил заведенную им в капкан дивизию на произвол судьбы, чтобы самому попытаться спастись от пленения. Однако после четырех суток блужданий незадачливый генерал сдался австрийцам и лишь впоследствии бежал из плена. «По возвращении в Россию в беседах с разными газетными корреспондентами Корнилов разукрасил историю своего побега яркими цветами фантазии». Над прозаическими поправками, которые хорошо осведомленные свидетели вносят в легенду, у нас нет основания останавливаться. По-видимому, с этого момента у Корнилова появляется вкус к газетной рекламе.
До революции Корнилов был монархистом черносотенного оттенка. В плену при чтении газет он неоднократно говаривал, что «с удовольствием перевешал бы всех этих Гучковых и Милюковых». Но политические идеи занимали его, как вообще людей подобного склада, лишь постольку, поскольку касались непосредственно его самого. После февральского переворота Корнилов очень легко объявил себя республиканцем. «Он весьма плохо разбирался, – по отзыву того же Мартынова, – в скрещивавшихся интересах различных слоев русского общества, не знал ни партийных группировок, ни отдельных общественных деятелей». Меньшевики, эсеры и большевики сливались для него в одну враждебную массу, которая мешает командирам командовать, помещикам – пользоваться поместьями, фабрикантам – вести производство, купцам – торговать.
Комитет Государственной думы уже 2 марта ухватился за генерала Корнилова и за подписью Родзянко настаивал перед ставкой о назначении «доблестного, известного всей России героя» главнокомандующим войсками Петроградского военного округа. На телеграмме Родзянко царь, уже переставший быть царем, надписал: «Исполнить». Так революционная столица получила своего первого красного генерала. В протоколах Исполнительного комитета от 10 марта записана о Корнилове фраза: «…генерал старой закваски, который хочет закончить революцию». В первые дни генерал постарался, впрочем, показать себя с выгодной стороны и не без шума выполнил ритуал ареста царицы – это ставилось ему в плюс. Из воспоминаний назначенного им коменданта Царского Села полковника Кобылинского обнаруживается, однако, что Корнилов играл на два фронта. После представления царице, сдержанно рассказывает Кобылинский, «Корнилов сказал мне: „Полковник, оставьте нас вдвоем. Сами идите и станьте за дверью“. Я вышел. Спустя минут пять Корнилов позвал меня. Я вошел. Государыня подала мне руку…» Ясно, Корнилов отрекомендовал полковника как друга. В дальнейшем мы узнаем о сценах объятий между царем и его «тюремщиком» Кобылинским. В качестве администратора Корнилов оказался на своем новом посту из рук вон плох. «Его ближайшие сотрудники в Петрограде, – пишет Станкевич, – постоянно жаловались на его неспособность работать и руководить делом». В столице Корнилов задержался, однако, недолго. В апрельские дни он попытался, не без внушений со стороны Милюкова, учинить первое кровопускание революции, но натолкнулся на сопротивление Исполнительного комитета, вышел в отставку, получил в командование армию, затем – Юго-Западный фронт. Не дожидаясь легального введения смертной казни, Корнилов отдал приказ расстреливать дезертиров и выставлять трупы с надписями на дорогах, грозил суровыми карами крестьянам за нарушение права помещичьей собственности, сформировал ударные батальоны и при каждом подходящем случае грозил кулаком Петрограду. Это сразу окружило его имя ореолом в глазах офицерства и имущих классов. Но и многие комиссары Керенского сказали себе: иной надежды, кроме как на Корнилова, уже не остается. Через несколько недель боевой генерал с печальным опытом командования дивизией стал верховным главнокомандующим разлагающейся многомиллионной армии, которую Антанта хотела заставить сражаться до полной победы.