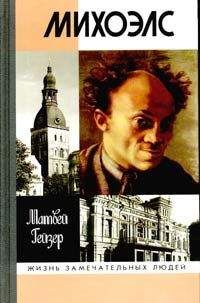Наталия Вовси — Михоэлс - Мой отец Соломон Михоэлс (Воспоминания о жизни и смерти)
Ее‑то и встретили тетушка Титася с маленькой Варей. Натренированный в революционных бурях и тюремной тишине слух» доброй Гуты» помог уловить ей среди гула ночной, переполненной беженцами ташкентской площади имя Михоэлса, и она взялась доставить к нему Варю с тетушкой. Каково же было удивление и радость, когда, вернувшись поздно ночью домой, отец с Асей обнаружили перед закрытой дверью своей комнаты Гуту, Варю и Титасю.
Как я уже говорила, эта встреча произошла за два дня до нашего приезда, затем появились мы, и вот в небольшой комнате с тремя узкими койками поселилось шестеро человек. Но какое это имело значение, когда, наконец, после стольких месяцев неизвестности и разлуки, мы снова были вместе!
ТЕАТР ДЛЯ СЕБЯ
Итак вся наша семья занимала теперь одну небольшую комнату, и в этой непривычной тесноте создавалась неповторимая атмосфера близости и даже какого‑то своеобразного домашнего уюта.
Мы жили в большом» казенном» доме, который ташкентские власти отдали на время эвакуации ученым. Среди них были историки Виппер и Струве, академики Ушаков и Каблуков, писатели Александр Дейч и известный экономист Левина, и многие другие виднейшие деятели науки и культуры. Жизнь их протекала в привычных для войны заботах и тихом кабинетном труде.
И поэтому наша комната, куда непрерывно приходили люди, где жизнь начиналась только после двенадцати ночи, когда папа возвращался из театра, вызывала у благочестивых академиков жгучий интерес. «Они заглядывают к нам как в грех», — любил говорить отец.
А у нас и впрямь, как у грешников в аду, вечно шипела на плитке раскаленная сковорода, на которой в немыслимой вони кунжутного масла. жарилась картошка. Ни такой жуткой картошки, ни такого растения — кунжут, ни такого черного масла, я никогда больше не встречала.
После целого дня напряженной и утомительной работы, отец возвращался домой в неизменном сопровождении кучки голодных и веселых друзей, и начинался пир, длившийся до трех — четырех утра. И хотя картошка была несъедобна, комнату наполнял чад, сквозь который едва пробивался слабый свет лампочки, а в углу спали Варька с Титасей, до чего же было вкусно и хорошо!
Усталость и напряжение, в которых проходил день, требовали разрядки. И тут начинались игры.
Как‑то вечером отец вернулся домой вместе с Абдуловым, прекрасным актером Театра Революции. Оба были чрезвычайно оживлены объявлением, прочитанным только что на соседней двери: «Я, единственная женщина — член — корреспондент Академии наук СССР Фолкнер — Смит, требую, чтобы в часы отдыха никто не нарушал мой покой». В середине ужина отец неожиданно взобрался на стремянку, забытую каким‑то рабочим, и с этой импровизированной трибуны произнес очень лихую речь. Абдулов, стоя внизу с граненным стаканом с водкой, подавал реплики.
Понятно, что я не берусь восстановить этот неповторимый диалог, основным мотивом которого было вдохновившее их с Абдуловым сочетание слов» женщина — член». Но это была поистине вдохновенная импровизация! Мы покатывались со смеху, а они невозмутимо продолжали. В конце концов Ася взмолилась, чтобы они замолчали, так как боялась нашим смехом разбудить спящих невинным академическим сном ученых мужей.
Так как в Ташкенте Зускины жили далеко, то отцу явно недоставало партнера. Осип Наумович Абдулов с полным пониманием отнесся к этой слабости Михоэлса и с удовольствием включался в любую игру.
То, повязав щеку платком, он отправлялся с папой к известному пианисту Гольденвейзеру одолжить водки — «может сжалится». То, увидев как‑то в окне старого узбека — ночного сторожа, они пошли договариваться с ним» отправиться вместе в Мекку». Их фантазия и изобретательность были неисчерпаемы, и каждый день Михоэлс с Абдуловым придумывали что‑то новое.
И хотя война была одинаково для всех тяжелым, голодным и страшным временем, Михоэлс умел совершенно сознательно» впасть в беспечность» и заразить нас. А я на опыте всей дальнейшей жизни убедилась, что в те минуты, когда от нас уже ничего не зависит и мы не в силах что‑либо изменить, ничто так не спасает, как легкомыслие. Впрочем, папе игры были необходимы, в первую очередь, как разрядка при той ответственности и нагрузке, которую он взял на себя.
Однажды мы попытались сосчитать, сколько у него должностей. Папа, вооружившись карандашом и бумагой, записывал под диктовку: 1) Руководитель Государственного Еврейского Театра; 2) Художественный руководитель Узбекского Оперного театра; 3) Председатель Еврейского Антифашистского комитета; 4) Член театральной секции Комитета по Сталинским премиям; 5) Профессор, педагог театральной студии; 6) Режиссер — постановщик Узбекского драматического театра и так далее. Мне трудно восстановить сейчас в памяти полный список папиных официальных ролей, но, добавив к этому» муж», «отец» и»брат» — должности, к которым отец относился с неменьшей ответственностью, — получалось что‑то около двадцати.
Если учесть, что жара стояла изнурительная, транспорт в пору войны работал с серьезными перебоями, а расстояния, которые приходилось Михоэлсу преодолевать, разрываясь между репетициями, заседаниями, комиссиями и спектаклями, были огромными, просто непонятно, как он вообще что‑то успевал.
И вот, по чьему‑то распоряжению, была прикомандирована к отцу старая кляча с бричкой и древним узбеком — возницей, который ежедневно ранним розовым восточным утром возвещал о своем прибытии стуком кнута в дверь: «Сулейман! Моя пришла!«Так начинался день.
Отец водружался на бричку и кляча медленно тащилась через весь город.
Среди евреев молниеносно распространился слух, что» Михоэлса можно застать по дороге». В итоге к концу пути он уже обрастал толпой.
С какими только просьбами к нему не обращались! То мамаша, волоча за руку упирающегося мальчика, умоляла отца достать струну» ля», без которой ее Боренька не может продолжать занятия на скрипке; то озабоченный муж просил договориться о роддоме, чтобы жена рожала» в приличных условиях»; то просили помочь устроиться на работу; то увеличить норму продовольственной карточки и так далее. Многие подходили, чтобы поведать Михоэлсу свою историю, попросить помочь разыскать близких.
Кончилось тем, что» просители» подарили ему самодельную чернильницу — непроливайку и ручку из лучины с перышком, привязанным суровой ниткой. С тех пор он прямо на ходу записывал имена и просьбы. Недаром отец говорил о себе: «Я обвешан судьбами».
Одного только мы никак не могли понять — как он, с его темпераментом и нетерпеливостью, мог выносить такое медленное передвижение?
Случалось, что бричка подкатывала неожиданно к нашему дому в середине дня, и тут уж папа» брал реванш» — стремительно, почти бегом он взлетал по широкой лестнице и мы, услышав его шаги, выбегали навстречу.
Одной из наиболее затянувшихся игр была игра в» Нет! Я не Байрон, я другой!». Вернувшись однажды домой, папа просунул голову в дверное окошко и заявил: «Нет! Я не Байрон! Я другой!». Так это и началось. На протяжении нескольких дней он изводил нас этой фразой, ничего другого от него нельзя было добиться. В ответ на любые вопросы: «Кофе хочешь? Что говорить, если тебе позвонят? Кого ты сегодня видел? В котором часу ты вернешься?«и т.д.,— мы слышали только: «Нет! Я не Байрон, я другой!«Но голосом, интонацией, мимикой и жестом, он умудрялся в корне менять весь смысл этой фразы, так что мы с легкостью понимали и» в котором часу он вернется», и» хочет ли он кофе».
Как‑то он забежали домой перекусить с Сашей Тышлером. Разговор, помнится, был о том, как на определенных этапах истории религия находила свое отражение и в архитектуре и в костюме. Саша, поедая затируху, отвратительное изобретение военного времени, набрасывал на обрывках бумаги готические храмы и повторяющие их форму головные уборы женщин; пирамидообразные прически древних египтян и луковки церквей, напоминающие, как он утверждал, кокошники. Папа тем временем пытался изобразить на бумаге сходство мечети с паранджой, что ему явно не удавалось. Бросив, в конце концов, эту затею, он воскликнул, завидуя Сашиному таланту: «Нет! Я не Байрон! Я другой!»
Я прочитала у Надежды Мандельштам, что Мандельштам считал работу актера и работу поэта» профессиями — антиподами». Однако актер, подобный Михоэлсу, который ставит себе задачей проникнуть в тайну своего» я»(«… в своих работах я только пытаюсь раскрыть себя…», — пишет он в одном из выступлений), — во многом уподобляется поэту, ищущему» разгадку жизни своей», по определению Мандельштама. Разница состоит в том, что у поэта есть протяженность во времени — его труд остается» в веках». Актеру же требуется сиюминутное самовыражение.
Михоэлс, лишенный из‑за всевозможных нагрузок возможности создавать новые роли и новые постановки, вынужденный играть на сцене образы, созданные еще до войны, пытался всеми силами заполнить этот пробел. Вот один из примеров.