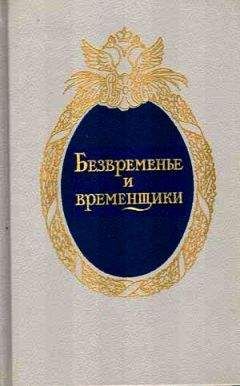Евгений Гнедин - Выход из лабиринта
«В призыве (Солженицына) жить не по лжи главное — это мысль о необходимости отличать добро от зла». Я думаю, против этой мысли не будет возражать и Солженицын, так же как и многие его доброжелательные оппоненты.
«Историческим преступлением партийной бюрократии под сталинским главенством была ликвидация НЭПа, то есть уничтожение предпосылок благоприятного развития страны в условиях смешанной экономики».
«Идея строить социализм в полуаграрной стране послужила основанием для массовых репрессий против крестьянства».
«Я напоминаю, что из истории человечества и из индивидуальных судеб неустраним тот плодотворный революционный новаторский дух, который одновременно есть и дух трагедии».
Вне контекста эта последняя цитата вызвала бы у меня некоторую внутреннюю настороженность своей красивой неоднозначностью, но весь контекст книги показывает, что не революционное насилие, не политический авантюризм и цинизм, а именно новаторский, и в этом смысле слова революционный дух перемен в обществе и в жизни — главное для Гнедина.
Мемуары Гнедина — это эмоциональная исповедь человека, прошедшего большой путь духовной эволюции. Важное место в ней занимают стихи (Глаза горбуна: «Мой горб — мой долг… и только боль былой потери в глазах тоской отражена»; второе рождение горбуна — отсюда название книги? — «себя не потерять в пути — вот все, чему меня обяжет мой долг, пылающий в груди»).
Центральный аллегорический образ в книге — образ лабиринта. Это не только тюремные коридоры, в которых страдают и не находят выхода несчастные люди, но и образ трагического блуждания мысли, воплощение «иронии истории». Для Гнедина лабиринт эпохи, погубивший миллионы, губящий саму мечту о новом, более справедливом обществе, угрожающий будущему всего человечества, создается перерождением средств и последующей подменой целей. Вместо революционного идеализма появляется террор (подмена средств). Вместо великой мечты приходит корыстолюбивый бюрократизм (подмена целей). Этот основной этический тезис Гнедина бесспорен и глубок, как бы ни относиться к самим исходным целям — считать ли их благородной утопией, или гениальным проникновением в суть проблем, стоящих перед человечеством, или опасным заблуждением.
В центре внимания Гнедина — социологический и психологический анализ характера человека его поколения (и «красного», и «белого»), «эпохальный характер» по использованному в мемуарах выражению Герцена, с его исходной бескорыстной и благородной приверженностью к крупномасштабным проблемам человечества и потенциальной способностью к тому перерождению, которое приводит в «лабиринт».
Из моего краткого изложения, я надеюсь, ясна общечеловеческая значимость волнующих Гнедина проблем, необычность и одновременно типичность рассказанной им судьбы.
Издание мемуаров Гнедина в полном виде на русском и иностранных языках представляется мне важным делом.
Андрей Сахаров
29 ноября 1978 года, в день 80-летия Е.А.Гнедина.
II. ЖИЗНЬ БЕЖИТ, КАК КРОВЬ ИЗ РАНЫ. ПИСЬМА ИЗ ЛАГЕРЯ
«14 января 1942 года.
Дорогие мои, милые мои, наконец, сегодня получил первые известия от вас за 2 1/2 года. Я получил Надину открытку 5 от 14/XII и мамину 1 от 11/XII. Жду, когда дойдет письмо, написанное Танюшей и ваши прочие письма.
Хотя я оставался неизменно прежним оптимистом при самых неожиданных обстоятельствах, все же получение ваших писем осмыслило мою жизнь. Я здоров, бодр, не теряю надежду, и вижу сны, подобно тем, о которых пишет мама…
Я нахожусь, примерно, в обычных для моего положения условиях, но в состоянии выше среднего, безусловно… Денег пришли немного, продукты, видимо, нельзя. Из вещей нужны обувь и прочие носильные вещи, кроме пальто, пиджака (по недоразумению, я привез сюда только кое-что из полученных в Москве в 1939 г. передач)… Обнимаю вас троих крепко, дорогие.
Пишите, пишите.
Всегда ваш Женя»
«21 января 1942.
Дорогие мои, повторяю вкратце сказанное в предыдущих письмах: я получил в середине января от вас телеграмму, открытку Нади 5, мамы 1 и послал телеграмму, две открытки и письма. Я здоров, не теряю ни надежды, ни бодрости. Вести от вас придали мне силы жить и надеяться. У меня работа по моим силам и самочувствие выше среднего. Я по-прежнему оптимист. Здесь я с августа. Писать мне можно сколько угодно, все дело в почте. Пишите часто, обо всем вас касающемся, о родных и друзьях и даже о книгах. Денежные переводы разрешены, но не знаю, доходят ли… Если принимает почта вещевые посылки (продуктовые, говорят, нельзя), то пошлите такие мелочи: носки, мыло, бумагу, карандаши, иголки, нитки, кашне, полотенце, трубку и табак, махорку. Я одет и обут по-зимнему, буду нуждаться в ботинках. Если сохранились мои вещи, пошлите брюки, верхнюю рубашку, белье. Не надо добывать и много посылать. Попытайтесь послать бандеролью журналы (можно и старые), книги. Но, главное, пишите, чтобы не прерывалась столь драгоценная, кровная связь. Я, как и вы, верил и верю, что увидимся, встретимся. Живите, дорогие, бодро, хорошо, живите, не беспокоясь обо мне, и я верю, что моя жизнь далеко не исчерпана, тем более, что я ее люблю по-прежнему, как вас, мои дорогие.
Ваш Женя
«19 января 1942 года.
Дорогая Наденька.
День так сложился, что могу вспомнить не только о дате, [«19 января 1920 года. Он любит меня. Верую, Господи.» — из дневника тринадцатилетней Нади, которая потом «стала его невестой, женой. Подругой. Пожизненно. Он одарил меня радостями, высокими и простыми, — он это удивительно умел. Но за свой Мир мы заплатили муками...»] но и о юности… Какое счастье, что я знаю, куда писать и надеюсь, что письмо дойдет. Словами на бумаге чувств и мыслей не передать, но, назвав дату письма, я сказал многое…»
«6 июня 1942.
Дорогие,
только что в здешней конторе маленькая девочка лет шести со мною играла, как в старину моя дочка и другие дети. Это впервые за три года, и мне стало так тепло на душе, что добыл открытку и вот вам пишу. Я здоров, конечно, бодр и работаю чуть полегче, возможно, будет ещ легче. Очень скучаю без ваших писем.»
[весна 1949 года]
«… Дорогая Танюша,
сегодня перед отъездом перечел твои письма за четыре года и мысленно с тобой беседовал. Не только твоя жизнь, но вся наша эпоха всплыли передо мной. Ведь даже об атомной энергии ты писала. И сегодня читать эти строки очень интересно…
Что касается меня, то я начинаю новые странствия в полном здравии и бодрости. В конце концов и сквозь туман пробираться романтично. Как прибуду на определенное место, дам о себе знать.
А пока — терпение…»
НАДЕЖДА ГНЕДИНА
Княж-Погост
1945 г. Сейчас самый опасный момент моей жизни. Такой тоски, пожалуй, еще не было. Нет воли ни к чему, кроме воли к его присутствию.
Написала два заявления с просьбой разрешить свидание с Женей. Начальнику Гулага и начальнику лагеря.
Первого сентября 1945 года в два часа дня приехали в Княж-Погост. Деревянная платформа. Маленькая железнодорожная станция. Поезд стоит в Княж-Погосте несколько минут. Ехать в Вожаель пока не нужно. Женя еще на сплаве (на «караван-барже»).
Мне сообщают, что на мое и Женино заявление был дан формальный отказ.
Хозяйка избы, где я остановилась, предлагает мне пойти на радиоузел. Оттуда разговаривают с диспетчером. Он обещает мне дать телефон.
Это было утром. Вечером бежим в диспетчерскую.
Чуваш (бывший секретарь обкома) соединяется с караваном.
Говорит:
— Евгений Александрович, сейчас с вами будут говорить.
Передает мне трубку.
Закрываю глаза и говорю:
— Алло?
Женин хриплый голос:
— Надя?
— Да, Женюша, это я.
— Ты волнуешься?
— Нет, все замечательно.
Женя говорит что-то неясное. Я слышу, что плачет.
Спрашиваю:
— Когда приедешь?
Знакомый смешок.
Решаем, что я поеду к нему.
Проходят дни хождения с повторными заявлениями. Получаю разрешение на свидание в течение трех часов.
Снова еду в Княж-Погост. Пережидаю всех и выхожу последней. Подлезаем под составами, бежим закоулками между домиков. На ходу мне дают старый ватник, а мое английское пальто забирает Маруся. Какой-то казах ведет меня в Запань. Поднимаюсь на железную дорогу. Читаю и жду. Сейчас придет Женя после 6 лет и 4 месяцев. Медленно хожу взад и вперед. Боюсь надеть очки. И вижу, вижу ясно без очков — внизу от баржи идет маленькая фигурка большими шагами.