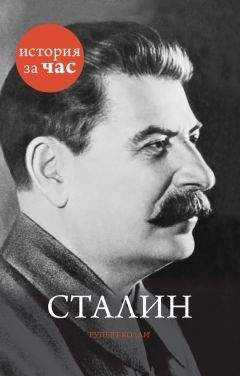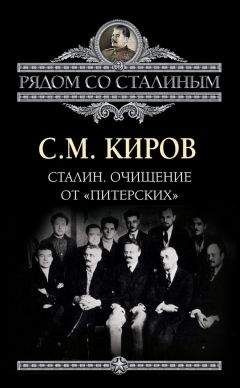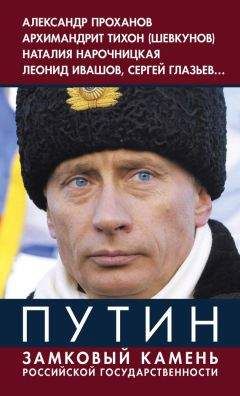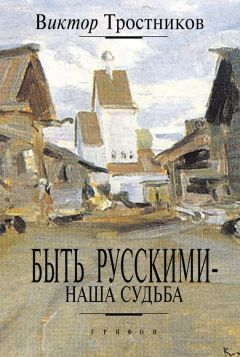Марина Цветаева - Статьи, эссе
— Был и другой Пушкин.
— Да: Пушкин Вальсингамовой задумчивости. (Священник уходит. Председатель остается, погруженный в глубокую задумчивость.)
___________
Ноябрь 1830 г. Болдино. Сто один год назад. Сто один год спустя.
УРОКИ ИСКУССТВА
Чему учит искусство? Добру? Нет. Уму-разуму? Нет. Оно даже себе самому научить не может, ибо оно — дано.
Нет вещи, которой бы оно не учило, как нет вещи, ей прямо обратной, которой бы оно не учило, как нет вещи, которой бы одной только и учило.
Все уроки, которые мы извлекаем из искусства, мы в него влагаем.
Ряд ответов, к которым нет вопросов.
Все искусство — одна данность ответа.
Так, в «Пире во время Чумы» оно ответило раньше, чем я спросила, закидало меня ответами.
Все наше искусство в том, чтобы суметь (поспеть) противупоставить каждому ответу, пока не испарился, свой вопрос. Это обскакиванье тебя ответами и есть вдохновенье. И как часто — пустой лист.
___________
Один прочел Вертера и стреляется, другой прочел Вертера и, потому что Вертер стреляется, решает жить. Один поступил, как Вертер, другой, как Гёте. Урок самоистребления? Урок самообороны? И то и другое. Гёте, по какому-то закону данного часа его жизни, нужно было застрелить Вертера, самоубийственному демону поколения нужно было воплотиться рукой именно Гёте. Дважды роковая необходимость и как таковая — безответственная. И очень последственная.
Виновен ли Гёте во всех последовавших смертях?
Он, на глубокой и прекрасной старости своих лет, сам ответил: нет. Иначе бы мы и слова сказать не смели, ибо кто может учесть действие данного слова? (передача моя, смысл таков).
И я за Гёте отвечу: нет.
Злой воли у него не было, никакой воли, кроме творческой, не было. Он, пиша своего Вертера, не только о всех других (то есть их возможных бедах), но и о себе (своей беде!) забыл.
Всезабвенье, то есть забвенье всего, чтó не вещь, то есть самая основа творчества.
Написал ли бы Гёте после всего происшедшего второго Вертера — если, вопреки вероятию, ему бы еще раз так же до зарезу понадобилось — и был ли бы подсуден тогда? Написал ли бы Гёте — зная?
Тысячу раз бы написал, если бы понадобилось, как не написал бы и первой строки первого, будь давление чуть-чуть ниже. (Вертер, как Вальсингам, давит изнутри.)
— И был ли бы подсуден тогда?
Как человек — да, как художник — нет.
Больше скажу: подсуден и осужден Гёте, как художник, был бы именно в случае умерщвления в себе Вертера в целях сохранения человеческих жизней (исполнения заповеди: не убий). Здесь художественный закон нравственному прямо-обратен. Виновен художник только в двух случаях: уже упомянутого отказа от вещи (в чью бы то ни было пользу) и в создании вещи нехудожественной. Здесь его малая ответственность кончается и начинается безмерная человеческая.
Художественное творчество в иных случаях некая атрофия совести, больше скажу: необходимая атрофия совести, тот нравственный изъян, без которого ему, искусству, не быть. Чтобы быть хорошим (не вводить в соблазн малых сих), искусству пришлось бы отказаться от доброй половины всего себя. Единственный способ искусству быть заведомо-хорошим — не быть. Оно кончится с жизнью планеты.
ПОХОД ТОЛСТОГО
«Исключение в пользу гения». Все наше отношение к искусству — исключение в пользу гения. Само искусство тот гений, в пользу которого мы исключаемся (выключаемся) из нравственного закона.
Что же все наше отношение к искусству, как не: победителей не судят — и кто же оно — искусство, как не заведомый победитель (обольститель) прежде всего нашей совести.
Оттого-то мы, вопреки всей нашей любви к искусству, так горячо и отзываемся на неумелый, внехудожественный (против собственной шерсти шел и вел) вызов Толстого искусству, что этот вызов из уст художника, обольщенных и обольщающих.
В призыве Толстого к уничтожению искусства важны уста, призывающие, звучи он не с такой головокружительной художественной высоты, призывай нас любой из нас — мы бы и головы не обернули.
В походе Толстого на искусство важен Толстой: художник. Художнику мы прощаем сапожника. «Войны и Мира» из нашего отношения не вытравишь. Невытравимо. Непоправимо.
Художником мы освящаем сапожника.
В походе Толстого на искусство мы еще раз обольщены — искусством.
___________
Все это не в укор Толстому, а в укор нам, рабам искусства. Толстой бы душу отдал, чтобы слушали не Толстого, а правду.
___________
Возражение.
Чья проповедь нищеты убедительнее, то есть для богатства убийственнее — отродясь-нищего, или богача, отрекшегося?
Последнего, конечно.
Тот же пример с Толстым. Чье осуждение чистого искусства убедительнее (для искусства убийственнее) — толстовца, в искусстве ничем не бывшего, или самого Толстого — бывшего всем?
Так, начав с нашего навек-кредита Толстому-художнику, кончаем признанием полного дискредитирования — Толстым-художником — самого искусства.
___________
Когда я думаю о нравственной сущности этой человеческой особи: поэта, я всегда вспоминаю определение толстовского отца в «Детстве и Отрочестве»: — Он принадлежал к той опасной породе людей, которые один и тот же поступок могут рассказать как величайшую низость и как самую невинную шутку.
СПЯЩИЙ
Вернемся к Гёте. Гёте в своем Вертере так же неповинен в зле (гибели жизней), как (пример со вторым читателем, из-за Вертера решающим жить) неповинен в добре. Оба — и смерть и желание жить — как последствие, а не как цель.
Когда у Гёте была цель, он осуществлял ее в жизни, то есть строил театр, предлагал Карлу-Августу ряд реформ, изучал быт и душу гетто, занимался минералогией, наконец, когда у Гёте была та или иная цель, он осуществлял ее прямо, без этого великого обхода искусства.
Единственная цель произведения искусства во время его совершения — это завершение его, и даже не его в целом, а каждой отдельной частицы, каждой молекулы. Даже оно само, как целое, отступает перед осуществлением этой молекулы, вернее: каждая молекула является этим целым, цель его всюду на протяжении всего его — всеместно, всеприсутственно, и оно как целое — самоцель.
По свершении же может оказаться, что художник сделал больше, чем задумал (смог больше, чем думал!), иное, чем задумал. Или другие скажут, — как говорили Блоку. И Блок всегда изумлялся и всегда соглашался, со всеми, чуть ли не с первым встречным соглашался, до того все это (то есть наличность какой бы то ни было цели) было ему ново.
«Двенадцать» Блока возникли под чарой. Демон данного часа революции (он же блоковская «музыка Революции») вселился в Блока и заставил его.
А наивная моралистка 3. Г. потом долго прикидывала, дать или нет Блоку руку, пока Блок терпеливо ждал.
Блок «Двенадцать» написал в одну ночь и встал в полном изнеможении, как человек, на котором катались.
Блок «Двенадцати» не знал, не читал с эстрады никогда. («Я не знаю „Двенадцати“, я не помню „Двенадцати“». Действительно: не знал.)
И понятен его страх, когда он на Воздвиженке в 20 году, схватив за руку спутницу:
— Глядите!
И только пять шагов спустя:
— Катька!
В средние (о, какие крайние!) века целые деревни, одержимые демоном, внезапно начинали говорить по-латыни.
Поэт? Спящий.
ИСКУССТВО ПРИ СВЕТЕ СОВЕСТИ
Один проснулся. Востроносый, восковолицый человек, жегший в камине шереметевского дома рукопись. Вторую часть «Мертвых Душ».
Не ввести в соблазн. Пуще чем средневековое — собственноручное предание творения огню. Тот само-суд, о котором говорю, что он — единственный суд.
(Позор и провал Инквизиции в том, что она сама жгла, а не доводила до сожжения — жгла рукопись, когда нужно было прожечь душу.)
— Но Гоголь тогда уже был сумасшедшим.
Сумасшедший — тот, кто сжигает храм (которого не строил), чтобы прославиться. Гоголь, сжигая дело своих рук, и свою славу жег.
И вспоминается мне слово одного сапожника (1920 г. Москва) — тот случай сапожника, когда он поистине выше художника.
— Не мы с вами, М<арина> И<вановна>, сумасшедшие, а они недошедшие.
___________
Эти полчаса Гоголя у камина больше сделали для добра и против искусства, чем вся долголетняя проповедь Толстого.
Потому что здесь дело, наглядное дело рук, то движение руки, которого мы все жаждем и которого не перевесит ни одно «душевное движение».
___________
Может быть, мы бы второй частью «Мертвых Душ» и не соблазнились. Достоверно — им бы радовались. Но наша та бы радость им ничто перед нашей этой радостью Гоголю, который из любви к нашим живым душам свои Мертвые — сжег. На огне собственной совести.