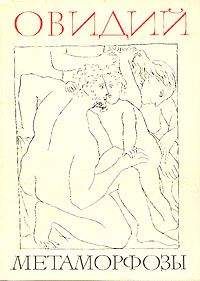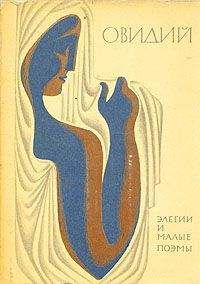Владислав Отрошенко - Тайная история творений
Каким бы ни было предложение – утвердительным или отрицательным, простым или сложным, полным или неполным, внятным или невнятным; что бы оно ни содержало – ложь или истину, вымысел или реальность, страсть или безразличие, – словом, на какой бы манер и о каких бы событиях, состояниях и явлениях оно ни возвещало, включая сюда и отказ о чем бы то ни было возвещать, оно всегда будет оставаться в границах этой безграничной формы, которая вмещает в себя абсолютно всё.
На языке оригинала (немецком) форма выглядит так:
“Es verha lt sich so und so”.
Ее русский эквивалент гласит: “Дело обстоит так-то”.
В трактате она носит название “самого общего предложения-формы”. То есть не только формы, некой пустой матрицы, готовой к принятию и развертыванию в своих драматически непреодолимых рамках любого количества слов и смыслов, но и полноценного предложения. Мало того, по мысли Витгенштейна, именно это предложение сообщает нечто самое существенное и даже единственно достоверное о бытие мира: Дело обстоит так-то.
Некоторые комментаторы и исследователи склонны рассматривать универсальное предложение-форму Витгенштейна как мельчайший и неразрушимый первоэлемент логики, как своего рода элементарную частицу “логической вселенной”.
В области духа и интеллекта, как видим, тоже велись и ведутся поиски своих электронов, протонов, нейтронов, частиц Юкавы и кварков.
В рамках рецензионной деятельности человечества неоценимый вклад в эти поиски внес в свое время и Николай Васильевич Гоголь, открывший универсальную, или самую общую рецензию-форму, которая, как и знаменитый логический первоэлемент Витгенштейна поражает своей величайшей самодостаточностью, высокой ясностью и предельной простотой.
Открытие произошло случайно, в 1836 году.
Какой-то неустановленный беллетрист, скрывавшийся под инициалами Я. А., написал и выпустил в Санкт-Петербурге отдельным изданием небольшую повесть. Содержание и сюжет ее не имеют для дела абсолютно никакого значения. Книга попалась в руки Николаю Васильевичу, который как раз в это время, проклиная жестокую петербургскую стужу (был февраль), согревал свою кровь регулярной работой – сочинением рецензий для “Современника”.
Гоголь добросовестно ознакомился с повестью, занес пером на чистый лист выходные данные издания и принялся обдумывать рецензию.
Никому не известно, конечно, какие мысли и чувства посещают открывателя за минуту до открытия. Быть может, Гоголю хотелось самым беспощадным образом распечь г-на Я. А., и он уже подбирал для этого в уме какие-нибудь желчные слова, сидя у окна и прислушиваясь к свистящему дыханию ненавистных морозов. Или, быть может, напротив, греясь у камина и вслушиваясь в ровное гудение огня, он думал о том, что недурно было бы и похвалить сочинение неизвестного автора. Но нельзя исключать и того, что повесть произвела на Гоголя такое впечатление, что он вовсе и не желал подходить к ней с прямыми оценками, а намеревался выстроить на ее примере ряд рассуждений об отечественной литературе, которые в свою очередь обещали породить еще целый ряд заманчивых рассуждений. Ему, может быть, уже приходили на ум и некоторые фразы для такого строя рецензии; они разрастались, сгущались, наплывали одна на другую, словно подвижные февральские тучи, и разглядеть за ними ту крохотную драгоценность, ради которой Провидение свело его с книгой загадочного Я. А., уже не было никакой возможности. Как вдруг все рассеялось, все прояснилось. И Гоголь отчетливо увидел ее, эту элементарную частицу “литературно-критической вселенной”.
Он увидел рецензию, которая поразила его своей предельной краткостью и неоспоримой объективностью. Это и была самая общая рецензия-форма, открывшаяся Гоголю во всем своем совершенстве и законченности. В качестве формы она была применима к любому новорожденному литературному произведению, каким бы оно ни было и о чем бы ни говорило. В качестве рецензии как таковой она сообщала о жизни произведения нечто самое существенное.
Гоголь быстро ее зафиксировал.
Вот она:
“‹Убийственная встреча, повесть Я. А. Спб. 1836 г., в тип. Артил. департ. Воен. Мин. в. 8, 113 стр.›
Эта книжечка вышла, стало быть, где-нибудь сидит же на белом свете и читатель ее.”
Гоголь и ад
Трудно, не хочется даже думать, что Гоголь – в аду.
Но все же мы обязаны – хотя бы в коротких словах – сказать, из чего бы мог состоять гоголевский ад. Это, во-первых, холод. Во-вторых, неподвижность. И в-третьих, немцы.
О безумном страхе Гоголя перед холодом и неподвижностью (невозможностью ехать, находиться в дороге) нет нужды говорить подробно. Не было для Гоголя ничего ужаснее стужи, нетопленой сумрачной квартиры, мертвых белых снегов и такого безденежья, при котором нельзя было в любую минуту броситься в дилижанс на верхний этаж (он любил брать верхнее место), запрыгнуть в легонькую коляску или устроиться у окна в просторном омнибусе, то есть, как он сам выражался, “сделать езды и путешествия”. Квартиру, кстати сказать, Гоголь всегда выбирал себе с таким трепетом, с каким это не делал ни один странствующий русский писатель. На само это дело найма квартиры он смотрел как на священный обряд, вмешивая сюда и Провидение и Господа Бога, и чудесные силы. “Бог простер здесь надо мной свое покровительство, – писал он Жуковскому из Парижа, – и сделал чудо: указал мне теплую квартиру, на солнце, с печкой, и я блаженствую; снова весел.”
Что же касается отношения Гоголя к немцам, то оно тоже слишком известно, чтоб пускаться в детальное исследование этого вопроса. Да и с какой целью? Объяснить?… Оправдать?… Нет. Никаких объяснений и оправданий быть не может. На немцев и Германию Гоголь вылил столько несправедливого яда, что никто бы не стал возражать, если бы немцы и Германия сказали, что Гоголь за эту свою ядовитость именно ада и заслуживает.
В самом деле, каким сказочным великодушием должны обладать немцы, чтобы простить Гоголю такие, например, мнения: “По мне, Германия есть не что другое, как самая неблаговонная отрыжка гадчайшего табаку и мерзейшего пива.” Или такие жалобы: “Опять я увижу эту подлую Германию, гадкую, запачканную и закопченную табачищем…”
Впрочем, если бы кто-то и взял на себя благородный (но скорее всего, тщетный) труд как-нибудь загладить перед немцами несомненную вину Гоголя, то этот кто-то должен был бы осторожно и учтиво, самым тихими голосом, осознавая всю сложность своего положения, высказаться в том духе, что Гоголь вовсе не потому не любил Германию и немцев, что испытывал к ним какою-то изначальную враждебность, а потому что вдруг слишком сильно полюбил другую страну и нацию: Италию и итальянцев. “Как показались мне гадки немцы после италианцев, немцы со всею их мелкою честностью и эгоизмом!” – писал он в 1838 году Мари Балабиной. Здесь следовало бы деликатно обратить внимание немцев на это очень важное после.
До – Гоголь не только не презирал Германию, эту первую страну, которую он увидел за рубежами Российской империи в августе 1829 года, приплыв на пароходе в Любек, и которую затем основательно изучил во время путешествия по ней в 1836 году, но был влюблен в Германию не меньше, чем Жуковский. Долгие годы Гоголь, как явствует из его писем к поэту, искренне восхищался Германией – “даже, может, с большею живостью, нежели как я въехал в первый раз в Италию”, уверял он Жуковского. Это подтверждают и его письма 1829 и 1836 годов к матери и сестрам, где Гоголь именно с живым восхищением и любовной теплотой пишет и о самих немцах, которых он называет “добрыми немцами”, поражаясь их “учтивостью и какой-то прелестью обращения”; пишет и об их “прекрасных” городах – о Гамбурге, в котором “жить очень весело”, об Ахене, вид которого “с горы чудо как хорош”, о “щеголе Франкфурте”, который “очень хорошо выстроен, уютный, светленький и окружен со всех сторон предлинным и прекрасным садом”, о “вольном торговом городе” Любеке, где “чистота в домах необыкновенная; неприятного запаху нет вовсе в целом городе” и где “домики, разбросанные за городом, увитые и усаженные деревьями, кустарниками и цветами, прелестны…”.
Эта была, так сказать, ранняя гоголевская Германия – светлая, почти райская, утопающая в садах, в цветах, в тонком благоухании, населенная улыбчивыми и красивыми жителями. Потом появилась другая Германия, поздняя и тоже гоголевская, но уже вполне адская – страшная, ужасающая, окутанная серым студеным воздухом, потонувшая в пиве, в грязи и в табачной копоти. А Главное, появились и соответствующие такой неземной – подземной – Германии обитатели: “гадкие немцы”, этакие анчутки. Потом, после, когда случилось то, что случилось. Когда Гоголю открылся его эдем – райская страна Италия и ее обитатели – итальянцы, которых он не просто полюбил, найдя в них и открытость, и великодушие, и подвижный находчивый ум, и детскую жизнерадостность, и мужественную гордость. Нет, он полюбил их так, что с некоторых пор, – как раз с тех пор, когда любая поездка на север, за Альпы, начала представляться ему жутким путешествием в некое адское пространство, в некую “подлую Германию” – с этого времени он стал “почитать всякого итальянца священною особою”, как свидетельствует живший с ним в Риме Николай Языков; “почему его и обманывают на каждом шагу”, – с прозаической грустью добавляет поэт. Гоголь, конечно, не мог разделять этой грусти. Итальянцам он прощал абсолютно все, включая и обманы, наносившие ущерб его кошельку. Даже умилялся, когда какой-нибудь пылкий пройдоха сапожник жульнически подсовывал ему, вознося их если не до небес, то до ног самого папы римского, совершенно негодные сапоги. Немцам же не прощал ничего. В немцах Гоголя раздражало все – начиная от “мелкой честности” и кончая телесной полнотой, встречающейся, разумеется, у представителей любой нации. Полных немцев Гоголь просто боялся, хотя поначалу он только подшучивал над своим страхом. “Вы знаете, что такое дилижанс? – объяснял он сестрам. – Это карета, в которую всякий, заплативши за свое место имеет право сесть. В середине кареты сидят по шести человек. Если со мною рядом будут сидеть два тоненьких немца, то это будет хорошо: мне будет просторно. Если же усядутся толстые немцы, то плохо: они меня прижмут. Впрочем, я одного из них сделаю себе подушкой и буду спать на нем.” Потом, когда весь мир разделился в его душе на адскую Германию и райскую Италию, ему было не до шуток. Он и кресло-то на верхнем этаже дилижанса брал потому, что опасался ездить внизу на общей скамейке – всё ему чудилось, что его “прижмут” там “толстые немцы”.