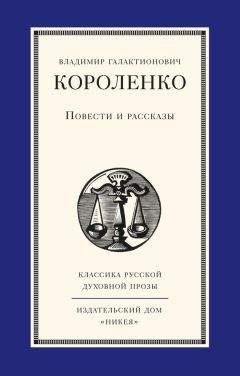Андрей Ашкеров - По справедливости: эссе о партийности бытия
Возможность философии Фуко непосредственно связана с концом антропоморфизма (предсказанным еще Людвигом Фейербахом). Антропоморфные описания могут быть атрибутированы кому угодно и чему угодно. Антропоморфизм имеет необозримую историю, общий лейтмотив которой выражает древнее высказывание софиста Протагора о том, что человек является мерой всех вещей. При этом любой антропоморфизм держится на принципиальной неразрешимости вопроса о копии и образце, создателе и творении. Так и не достигает окончательного решения проблема первичности (профанизацией которой служит знаменитый спор о курице и яйце): так что, люди все-таки подобны богам или же, напротив, боги подобны людям?
Философия Мишеля Фуко одним махом разрывает этот порочный круг. Однако для того, чтобы не произошло нового срастания, французский теоретик вынужден прибегнуть к специфическому варианту инставрации: связывая возможность антропологической метафизики со «склеиванием» эмпирического и трансцендентального, он настаивает на их полном и безоговорочном разъединении. Фуко указывает на то, что «склеивание» эмпирического и трансцендентального является уже целью критической философии Иммануила Канта. Однако, обращая трансцендентальное и эмпирическое в противоположности, последний только преобразует их в двухчастную конструкцию, идеально приспособленную для грядущего тождества (возникновение которого не заставляет себя ждать).
В то же время Кант сам всячески чурался антропологии, представлявшей собой, с его точки зрения, простой набор «эмпиричностей». В то же время, осуществив безжалостную подгонку эмпирического под трансцендентальное, немецкий философ превратил в новую антропологию моральную философию долга (захватывающую не только область этики, но и области онтологии и теории познания). «Антропологическая конфигурация современной философии предполагает удвоение догматизма, распространение его на два различных уровня, опирающихся друг на друга: докритический анализ того, что есть человек по своей сути, становится аналитикой того, что может быть дано человеческому опыту» [Там же. С. 362].
Таким образом, проект Фуко с самого начала связан с парадоксальным намерением: задаться вопросом о человеке, избавившись от рецептуры антропологического философствования. Впрочем, осуществление этого проекта показывает, что перед нами не столько парадокс, сколько настоятельное требование, отклик на которое ведет не только к деантропологизации онтологии и гносеологии, но и к демистификации нравственной проблематики. В той мере, в какой нравственность теряет религиозные основания и метафизические подпорки, справедливость перестает соотноситься не только с горним («Другим») миром, но и с миром других, сколько-нибудь не похожих на тебя людей. Она в буквальном смысле превращается в «личное дело каждого».
Речь идет не об особом эгоцентризме фукианского человека, подчинившего этику квазиантичной «заботе о себе», речь о появившихся в одночасье принципиальных особенностях организации человеческого существа, получивших название идентичности. Идентичность человека не равнозначна человеческому Я или человеческой самости. Не равнозначна она ни телу, ни душе, ни сознанию, ни бессознательному. Обретая идентичность, человек не просто достигает самотождественности – он становится единственным воплощением тождества в мире обострившихся противоречий, непроходимых пропастей и неистребимых различий. Именно поэтому обретение идентичности всегда проходит под знаком борьбы и утраты.
Раз идентичность беспрестанно отвоевывается – значит, человеческое существование сводится к воспроизводству бесчисленных сценариев власти; раз идентичность в любую секунду подвергается риску утраты – значит, любой человек есть жертва. Человек, наделенный идентичностью, не просто удерживает в себе свое противоречие (подобно тому как делал это гегелевский субъект), он сеет эти противоречия вокруг себя (превращая их в единственные закономерности окружающего его царства случайных обстоятельств).
Человек как функцияБез царя в голове, без Бога в душе, это существо ничего не создает и ничего не производит. Оно не является даже автором-творцом по отношению к собственному существованию – если, конечно, не понимать под этим существованием процесс диссеминации. Впрочем, скорее всего именно это экзистенциальное «рассеяние» играет в настоящее время ту роль, которая прежде принадлежала судьбе.
Понятое подобным образом, существование человека оказывается синонимом безличного функционирования: человек функционирует, потому что живет, и живет, потому что функционирует. Ни в отношениях, которые он организует, ни в делах, которые он ведет, не остается места «ни для чего личного». В этом заключается главный парадокс превращения справедливости в «личное дело каждого». Чем больше справедливость оказывается таким «личным делом», тем меньшее пространство отводится для «общего дела» (res publico) (которое в Древнем Риме понималось не только как совместное дело людей, но и как проявление сотрудничества людей и богов). По мере угасания «общих дел» онтологической формулой существования человека все больше начинает служить принцип anything goes. В мире, где случайно абсолютно все, любое действие не просто сходит с рук – оно неизменно обозначает собой перспективу «альтернативной» этики бытия.
Фуко ни в коей мере не является философом справедливости, его философия дискурса скорее нацелена на то, чтобы постоянно открывать и фиксировать несправедливое во всем множестве его проявлений. (Это совсем не безобидная процедура: обозначение несправедливости всегда до какой-то степени подразумевает ее легитимацию.) Однако французский автор показывает нам, чем предстает справедливость, когда она начинает касаться только лишь отдельного человека, а ее гарантией оказывается атомизация (рассеяние) индивидов. Непреднамеренный, не заявленный им самим ответ Фуко состоит в том, что справедливость оборачивается для человека его принципиальной онтологической раздвоенностью: «…Человек не одновременен с тем, что понуждает его к существованию, или с тем, на основе чего он существует; напротив, оказывается, что он захвачен силой, которая расщепляет его, отторгает его от своего собственного первоначала и одновременно сулит ему это первоначало как неизбежность, которая, быть может, никогда не осуществится… Время – то самое время, каковым является он сам, – отторгает его не только от той зари, из которой он вышел, но и от той зари, которая была ему обещана впереди» [Там же. С. 355].
Итак, онтологическим эквивалентом приватизированной, отданной на откуп индивида справедливости выступает время. Идентичность человека является, с одной стороны, способом воплощения тождеств, а с другой – отметиной или дефектом, закрепляющим их неустранимую половинчатость. Современный человек оказывается одновременно и больше, и меньше своего Я, он отстает от самого себя и себя же опережает, он часть без целого и одновременно – целое без частей. Собственно, именно поэтому современный человек и со-временен: время возникает как эффект его принципиальной раздвоенности – он равен самому себе в качестве становящегося, постоянно ускользающего от себя существа. Соответственно именно становление – всегда рискованное и неизменно разрушительное – открывает человеку лик справедливости.
Трехмерное пространство, или послед бытия
Отныне человеческое существование – это безличная машинерия противоречий. Справедливая участь для любого из нас синонимична монотонности их функционирования. Но суть мутации, случившейся со справедливостью, не только в этом. Она также и в том, что разрушительность становления оказывается имманентной каждому человеческому существу. Теперь он сам – разрушительное становление, обретшее плоть и кровь. Подобная постановка вопроса может иметь самые разные, иногда принципиально противоположные следствия.
Одно из таких следствий связано со сведением справедливости к стерилизации политики и самой жизни. Если повсюду власть, то справедливость для индивида оборачивается соединением и взаимоуничтожением стратегий раба и господина. Каждый отныне господин, но лишь в силу того, что в каждом скрывается раб. Господская и рабская ипостаси человека нейтрализуют друг друга, стерилизуя попутно и человеческое существование. Как только (привет Гегелю!) политика перестает исполнять для человека роль судьбы, судьбой человека делается суета. Эту сутолоку можно романтизировать, приписав ей статус шизодемократии, прочищающей забитые тромбами сосуды дисциплинарного общества (к подобной романтизации сводится идеология шизоанализа Жиля Делеза и Феликса Гваттари). Шизодемократия локализует политическое представительство на уровне отдельного индивида, выступающего субъектом-носителем множественной личности. Шизодемократия апеллирует соответственно к атомизированным персонам, каждая из которых – сама себе сообщество.