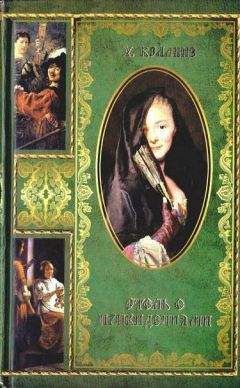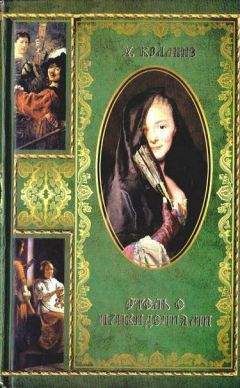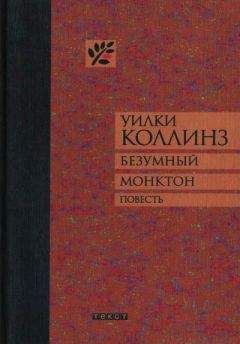Михаил Ульянов - Возвращаясь к самому себе
Также и звания. Раз их дают, значит, это уже орудие, способ воздействия, возможность заставить тебя делать то, что им надо.
Известно, что истинно народная — любимая народом, великая, гениальная актриса Раневская так никогда лауреатства и не получила, а звание Народной артистки Союза, ей присвоили незадолго до ее кончины. А все потому, что она была языкатая, остроумная, задевала кого-то… Это ее была знаменитая фраза: «Где наша Гертруда?» — «Кто это — Гертруда?» — «А Герой Труда!» Вот какова была жизнь.
Этими экономическими удилами — их же крепко держала одна единая партия — и правила она театром, приспособив его для своих политических задач и лозунгов. Подспудно театр играл роль политического подпевалы, политического прохиндея. Мы помогали воспитывать положительного послушного — героя, заставляли своим искусством поверить в неоспоримостъ и неприкосновенность тех догм, которые нам всем были навязаны. И мы рабски честно, а иногда нечестно, то есть не вполне рабски, выполняли свой идейный долг.
Но все равно — и в таком стреноженном, зашоренном театре жизнь шла. Все равно в театре жил талант великих наших художников, таких, как Охлопков, Попов, Папанов, Зубов, Рубен Симонов, Товстоногов. В то время выросли Эфрос, Ефремов, Волчек. Создавали свои произведения Арбузов, Розов, которые смогли в своих пьесах отразить свое время и его проблемы, пусть не во весь голос, но внятно для современников.
Поэтому нельзя сказать, что театр не жил, это было бы фальшью и ложью. Однако, все лучшее, что было в нем, прорывалось к зрителю с боями. Пьесы Зорина, Арбузова, Володина, Алешина продирались на сцены театров с огромной мукой, с огромными трудами, терпя издевательства начальства. В ход шли уговоры, слезы, а то и ловкачество, истерики, доказательства. Эти бесконечные хождения по кабинетам: чтоб разрешили, не сняли, не вырезали лучшее, самое дорогое для автора…
Иногда спектакль не выпускали месяцами, иногда совсем запрещали, иногда его так обрезали, такие делали усекновения, что от него ничего не оставалось.
И тем не менее что-то прорывалось, и зрители дышали толикой свободы понятными им намеками на правду.
Были и прекрасные взлеты творчества. Ибо творчество нельзя зажать совсем, как нельзя выполоть всю траву: ее вырывают, а она снова лезет. Как нельзя оборвать все листья, как нельзя и искусственно окрасить все листья в иной, не естественный цвет. Есть армейская побасенка: приезжает в часть какое-нибудь очень высокое начальство, чин, и если дело происходит осенью, то бывает, солдат заставляют зеленой краской подновлять пожелтевшие листву и траву. А чтоб было весело, зелено и посыпано песочком. Конечно, «липа» этого дела давным-давно известна, со времен потемкинских деревень. Но уж сколько мы понастроили этих «деревень», этого ни пером описать, ни Потемкину присниться…
Театральная жизнь простиралась от взлетов творчески непослушных: Любимова, Ефремова, Товстоногова, — до полного лакейского служения Софронова, Сурова…
Тем долгим временем — десятилетиями — сложилась, выработалась определенная атмосфера жизни театров. Такие, как Малый, MXAT, Александринка, Вахтанговский, имени Маяковского, Ленинского комсомола, Моссовета, — все они или остались со старопрежних времен или сложились заново — те святые места, где сохранялась российская театральная культура. Ибо наши режиссеры были крупными художниками высочайшей культуры, и среди всякой макулатуры, «датских» — от слова «дата» — юбилейных и праздничных спектаклей, создавали и серьезные, глубокие работы. Они не давали заглохнуть российской театральной культуре. Культуре, созданной поколениями мастеров, культуре актерской, культуре самой артельной жизни коллективов театров. Внутри страшной системы тотального диктата, рядом с теми нелепыми вещами, о которых говорилось выше, существовали коллективы, хранившие достоинство, традиции, культуру российских театров и актеров.
Как стало…
И вот наступила новая эпоха. Наша, сегодняшняя. Все трещит, ломается, перекраивается, перетасовывается, переименовывается. Чаще всего — наспех, торопливо, в какой-то дикой горячке и безоглядности: скорей-скорей! Скорей-скорей переназовем все улицы! Скорей-скорей сломаем все памятники!
Мы опять повторяем варварство двадцатых — тридцатых годов, когда сносили храмы — даже Христа Спасителя, сложенного на копейки, пожертвованные чуть ли не каждой душой православной, то есть на истинно народные деньги, и то не пощадили… Жгли прекрасные поместья, церкви, монастыри. По счастью не разрушенные, как, например, Спас-Евфимьевский в Суздале, превращали в тюрьмы и колонии. В 37-м году резко не хватало таких обителей. Позднее в Спас-Евфимьевском устроили колонию для малолетних преступниц. То есть тогда все перевернули вверх ногами. Ничего своего не успев создать, старое успели разрушить. Многое уже бесследно…
И в настроении наших нынешних дней есть что-то похожее на то время; что-то горячечно пьяное, торопливое: успеть бы забить осиновый кол во все, что было вчера…
Да, разумеется, надо освободить человека от вчерашних пут — и экономических, и идеологических, надо предоставить ему возможность почувствовать свою самостоятельность, свои способности, проявить себя, свою личность. Весь вопрос в том, как это делать, как направлять эту освобождающуюся, ранее скованную, творческую потенцию людей. Но пока что снова, как из первичного хаоса, начинается новое время, новый век. И в пыли и треске хаотической ломки плохо просматриваются какие-либо, хоть бы отдельные опоры. Теоретически — понять можно, отрешившись от собственной судьбы, от проблем своего единственного дела, — можно понять, что, когда лопнули скрепы, упал гнет с такой гигантской страны, с такого разноплеменного народа, без очень большого шума и треска не обойтись… Если бы пар стравливали, как говорят судовые механики, «помалу… помалу…» и регулировали температуру перемен… Но кто будет стравливать «помалу», если руки заняты непрекращающейся дракой, если штурвал рвут из рук тех, кто пытается курс держать?
И вот иду я по своему старому Арбату — пятьдесят лет по нему хожу и можно сказать, живу большей частью тут, где мой родной театр, и читаю по нему, как по живой наглядной книге, историю перемен в нашей стране, в нашей Москве, в нашем театре… Сколько помнит Арбат… И я вместе с ним… Помню, как в самом начале пятидесятых на нашей улице через каждые десять метров стояли так называемые стукачи, ведь Арбат был правительственной трассой, по ней Сталин ездил на свою Ближнюю дачу, в Волынское. И на Арбате буквально все было напичкано этими ребятами. Многих из тех, что стояли около нашего театра, мы знали. Иной раз на коньяк у них занимали. У них почему-то в отличие от нас всегда было… Жизнь шла довольно странная… Мы же тоже знали, что каждый из нас буквально просвечен, каждый на счету…
А однажды Арбат перекрыли: с него сняли всю толщу мостовой и тротуаров до песка; его прорыли глубоко и уложили вниз бетонную, двухметровой толщины, подушку. Все для того, чтобы нельзя было сделать подкоп, подложить бомбу и рвануть вождя. Так Арбат и доселе стоит на бетонной подушке…
Теперь Арбат стал пешеходной улицей. Это прекрасно, когда человек свободно и спокойно идет по старинной улице и, не боясь, что его сшибет машина, может вертеть головой, рассматривая красоты старинной и не очень старинной архитектуры, витрины и вывески магазинов, кафе, разных банков… Это и прекрасно, и символично.
Но в течение каких-то кратких недель этот «свободный» от страха Арбат был захвачен некоей ордой. И если раньше здесь хозяйничали стукачи, то теперь — мафиози. Тогда — осведомители, теперь — «крестные отцы».
Торговая шатия, с которой кормятся сии «отцы», захватила все переулки окрест, нагородила вокруг себя горы грязи, наворотила бескультурья, безответственности, бессмысленности. Ибо свобода на этой пешеходной улице бессмысленность, через ряды торговцев всякой всячиной, почти сомкнувшиеся на середине улицы, пробраться труднее, чем через поток машин. Какое там любование архитектурой, старинными особняками — уберечь бы свои бока и карманы… Арбат превратился в такую клоаку…
Вольно-невольно все это задело интересы нашего театра по той простой житейской причине, что к нам боятся ходить. И боязнь эта совершенно оправдана. Великая страна, огромный город — столица России — не могут решить простейшую вещь: дать Арбату свет. Обыкновенный, электрический. Мы кричим по всем телефонам, умоляем всех начальников: ну, сделайте же наконец хороший свет на Арбате! Но не могут они этого решить, ибо лампы без конца бьют! Их заменяют, но в тот же день они снова разбиты. Потому, выходя после спектакля на улицу, люди оказываются как в темной подворотне. И, пригнувшись, спешат поскорей или на Смоленскую или на Арбатскую площади, где немножко пошире и посветлей. И вот бегут наши зрители по этой длинной и темной подворотне, по Арбату, бегут испуганные, бегут, может быть зарекаясь пойти еще раз в этот театр…