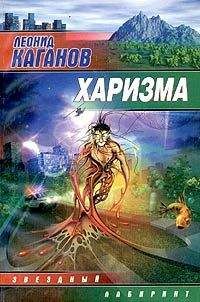Дмитрий Мережковский - Было и будет. Дневник 1910 - 1914
Да, виноват не он. Кто же? Мы все. «В революцию мы не верим, Бога у нас нет», — может быть, не случайно для самого Чехова это соединение Бога с революцией, а для нас оно не случайно наверное.
Идеалисты 1905 года, так же как идеалисты 60-х годов, мы поверили в общественность. И вот, так же как они, перестали верить; и опять «у нас нет чего-то», опять «дальше ни тпру, ни ну… хоть плетьми нас стегайте», опять вино сделалось уксусом. К идеализму 1905 года мы относимся так же, как Чехов — к идеализму 60-х годов. Старый опыт повторяется. Неужели без пользы? О, если бы только без пользы!
Не потому ли мы перестали верить, что не до конца верили? И не потому ли не до конца верили, что вера в Бога и есть конец — конец и начало всех вер? Вера была у нас; может быть, и сейчас вера есть, но нет религии, потому что религия есть сознание веры, исповедание Бога.
Второе письмо — по поводу г-жи С., которой Суворин показал письмо Чехова и которая обвинила его в «неискренности».
«Если вам хочется неискренности, то в письме С. ее миллион пудов. „Цель жизни — это сама жизнь“. Или: „Я верю в жизнь, в ее светлые минуты, ради которых не только можно, но и должно жить; верю в человека, в хорошие стороны его души“ и т. д. Неужели это искренно и значит что-нибудь? Это не воззрение, а монпансье. Она подчеркивает „можно“ и „должно“, потому что боится говорить о том, что есть. Пусть она сначала скажет, что есть, а потом уж я послушаю, что можно и что должно. Она верит „в жизнь“, а это значит, что она ни во что не верит, если она умна, или же попросту верит в мужицкого Бога и крестится в потемках, если она баба».
«Под влиянием ее письма вы пишете мне о „жизни для жизни“. Покорно вас благодарю. Ведь ее жизнерадостное письмо в 1,000 раз больше похоже на могилу, чем мое. Я пишу, что нет целей, и вы понимаете, что эти цели я считаю необходимыми и охотно бы пошел искать, а С. пишет, что не следует манить человека всякими благами, которых он никогда не получит… „Цени то, что есть“, и, по ее мнению, вся наша беда в том, что мы все ищем каких-то высших и отдаленных целей. Если это не бабья логика, то ведь это философия отчаяния. Кто искренно думает, что высшие и отдаленные цели человеку нужны так же мало, как корове, что в этих целях „вся наша беда“, тому остается кушать, пить, спать или, когда это надоест, разбежаться и хватить лбом об угол сундука».
Чехов этого не сделал — не бросился в пролет лестницы, как Гаршин, не разбил себе голову камнем, как сумасшедший Успенский. Но уже понял или почти понял, что это — смерть, та «вторая смерть», от которой нет воскресения. Понял или почти понял, что такое Суворин, и все-таки идет к нему, потому что идти больше некуда. Идет и слышит издали чавканье, хрюканье «свиньи-матушки»: «Я люблю этот юмор… Все к черту, все трын-трава!.. Из кабака прямо в церковь, а из церкви прямо в кабак!» И вдруг сам начинает подхрюкивать: «Та-ра-ра-бум-бия, сижу на тумбе я… Через двести, триста лет какая будет жизнь на земле!»
Да, Чехов понял или почти понял Суворина (в этом «почти» весь ужас его). Но Суворин так и не понял Чехова. А если бы понял, то, может быть, зааукал бы, загоготал на всю лесную дебрь:
— А, голубчик, попался! Узнал, кто я, — ну и знай! А я тебя не выпущу!
Неволей иль волей, а будешь ты мой!
Это — последний ужас, последняя судорога младенца в лапах Лешего. Он уже почти увидел лицо его звериное, но все еще не хочет видеть. А зверь давит, душит его.
«Я продолжаю тупеть, дуреть, равнодушеть и чахнуть». Суворин — чахотка, смерть Чехова: он его родил, он его убил.
«Уж вот он: мне душно, мне тяжко дышать»…
Ездок оробелый не скачет, летит;
Младенец тоскует, младенец кричит;
Ездок погоняет, ездок доскакал…
В руках его мертвый младенец лежал.
Мертвый Чехов. И наша любовь к нему — любовь к мертвому? Нет, к живому. Оживить Чехова — значит отделить его от Суворина, преодолеть в самом Чехове чеховщину, сувориновщину, обывательщину — те «русские потемки», в которых он погиб.
«В освобождение мы не верим, Бога у нас нет». Обе веры мы потеряли вместе и только вместе найдем.
Вот что хочет нам сказать живой, бессмертный Чехов.
НАЦИОНАЛИЗМ И РЕЛИГИЯ
Недавно Меньшиков[78] сделал открытие, что Иисус Христос — индейский бог. При этом, конечно, пострадали Ветхий и Новый Заветы. Но на эти маленькие повреждения стоило ли обращать внимание ввиду прекрасной цели: снять с христианства позорное клеймо — еврейство, или, как любит говорить Меньшиков, «жидовство» Иисуса Христа?
Архиепископ Антоний Волынский не понял добрых намерений Меньшикова и возмутился.
«Конечно, среди русской публики, превосходящей своим невежеством в Священном Писании все народы, можно городить какую угодно чушь. Прошу читателей не верить, — несколько наивно заключает архиепископ, — прошу поверить мне как бывшему профессору Священного Писания Ветхого Завета…» Писатели, подобные Меньшикову, по мнению архиепископа Антония, только «морочат честной народ» («Письмо» арх. Антония в редакцию «Колокола»).
Меньшиков — националист, арх. Антоний — тоже националист. Оба они считают православие оплотом русского «национализма», и вот один доказывает, что Иисус Христос — не «жид»; другой возражает, что Он во всяком случае не индейский бог, а православие остается незыблемым, продолжая объединять обоих противников в защите «национализма».
Но главного арх. Антоний все-таки не понял. Когда Меньшиков «городит чушь», то он хорошо знает, что делает, и тут не простое невежество.
Не простое невежество и в той «чуши», которую «нагородил» он (прошу извинения, что пользуюсь неучтивыми выражениями арх. Антония) о еврейском вопросе по поводу нашего письма (Поликсены Соловьевой, 3. Гиппиус, Д. Философова и моего).
Надо быть благодарным нововременским «националистам». Ежели до сих пор не для всех был ясен религиозный смысл «национализма», то теперь не может быть никакого сомнения, что это атеизм, нигилизм чистейшей воды.
Добрые старые нигилисты зажигали папиросы о лампадку перед образом; нынешние — затепливают ту же лампадку перед тем же образом, только с Ликом Господним, перемалеванным в индейского бога.
Перерождение «национализма» в нигилизм отнюдь не случайно, а логически неизбежно. Утверждать во имя любви к своему народу, как это делает А. Столыпин (и Меньшиков с ним соглашается), что другой народ — «зверь», «паук», «подделка на человечество», «чертова кукла», ядовитая гадина, которую надо стереть с лица земли, значит утверждать «национализм» как открытое и всенародное человеконенавистничество, человекоубийство. Всякий человекоубийца есть богоотступник, безбожник в высшей степени. Как человек, так народ: для того, чтобы видеть в другом народе лицо зверя, сам он должен озвереть, утратить лицо человеческое. «Национализм» и есть призыв к зверству. Русских людей уверяют, что они и евреи — два паука в банке: один другого съест. И весь вопрос, кто кого.
«Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом: я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть Израильтян, которым принадлежит и усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования; их и отцы, и от них Христос по плоти» (Рим., IX, 1–5). Это говорит тот самый апостол Павел, который оторвал христианство от еврейства и сделал его вселенским. А в Откровении Иоанновом перечисляются все двенадцать колен Израилевых, запечатленных печатью Бога Живого (Откр., II, 2–8).
Можно бы спросить Столыпина: если все евреи — не люди, а «звери», «пауки», «чертовы куклы», то как же апостол Павел желает быть отлученным от Христа за этих «чертовых кукол»? Можно бы спросить Меньшикова: если «жиды прокляты за то, что Христа распяли», то не благословенны ли мы, христиане, каждый день Его распинающие?
Но в религии с «националистов» спрашивать нечего.
Я никогда не забуду, как однажды в Венеции, в соборе св. Марка, А. С. Суворин в присутствии А. П. Чехова в полушутливом разговоре со мной о бессмертии воскликнул с простодушием и лукавством неподражаемым: «А кто его знает, есть ли Бог!»
На тот же вопрос один босяцкий философ у Горького отвечает: «Если хочешь, есть; если хочешь, нет». Босяцкий нигилизм — душа «национализма».
Люди эти могут искренно утверждать православие как русский стиль — кустарные изделия, петушки на избах, старинные вышивки на полотенцах. И, разумеется, такое «потешное» христианство не мешает ни еврейским погромам, ни смертным казням, никакому вообще зверству, как те молебны, которые иногда служат благочестивые содержательницы публичных домов, не мешают происходящему в этих домах.
Но можно ли с такими людьми серьезно говорить о религии?
Вот в чем главная трудность борьбы с «национализмом». С ним нельзя бороться оружием мысли, потому что в нем самом нет мысли. Современные «националисты» — выродки покойных славянофилов: у тех была мысль.