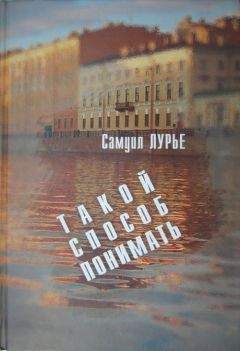Самуил Лурье - Железный бульвар
Владыка — лыка.
Мы расстаемся навсегда после предпринятой им биологической атаки на потенциальных противников: успешно распространил смертоносную инфекцию по всему периметру границ. Неизбежно умрет, скажем, к вечеру: из прутьев Анчара веников не вяжут.
Так что жанр этого стихотворения — басня. О любви к рабству. О любви к гибели. Быть может, и просто — о любви. О жаре. О механизме распространения самиздата и вируса.
Пушкин в этом году все недомогал. Жаловался приятелям на «нынешнее состоянье моего Благонамеренного, о коем можно сказать то-же, что было сказано о его печатном тезке: ей ей намерение благое, да исполнение плохое». Винил некую Софью Остафьевну: за скверный, надо думать, санитарный контроль в столичном центре холостого досуга.
Ну а в Третьем отделении стихи поняли, как всегда: как в советской школе. Почуяли клеветнические измышления, порочащие общественный и государственный строй. Извольте доказать, милостивый государь, что вы не антикрепостник, не правозащитник презренный! Пушкин возражал:
«…обвинения в примениях <sic> и подрозумениях не имеют ни границ ни оправданий, [ибо] если под [именем] слов, дерево будут разуметь конституцию, а под [именем] словом стрела <свободу> Самодержавие —.»
Удивительней другое.
Как известно, неандертальцы, подобно динозаврам, вымерли без объяснения причин. Череп самого последнего найден в Замбии, в пещере, на уступе. Этот человек, по старинке именуемый родезийским, умер 30 000 лет назад, совсем один. И властный ли был у него взгляд — попробуй теперь узнай.
С тех пор в ход пошли кроманьонцы.
И то сказать: Адам был неудачная модель — лицо без подбородка, покатый лоб, выступающие надбровные дуги. Правда, объем мозга не уступал современному, и на закате палеолита неандертальский ВПК пришел к удачным разработкам: изобретение лука сильно способствовало прогрессу. Но в смысле внешности — кроманьонцы не в пример симпатичней: почти как мы.
Так вот: Пушкин, конечно же, про человека из этой пещеры Брокен-Хилл не знал и знать ни в коем случае не мог. Как же примерещилась ему ни с того ни с сего подобная история?
И отчего в этом стихотворении, таком на вид простодушном, звук столь необыкновенной силы: как бы голос трубы над пустыней, — верней, как бы трубный глас?
2001
ОПАСНЫЕ СВЯЗИ. МУЗЫКА ДЕЛЬВИГА
Смерть Дельвига нагоняет на меня тоску. Помимо прекрасного таланта, то была отлично устроенная голова и душа незаурядного закала. Он был лучшим из нас.
А. С. Пушкин — Е. М. ХитровоАнтон Дельвиг, забытый сочинитель, погребен в январе 1831 года на Волковом кладбище. Над костями, ушедшими в толщу болота, — ни плиты, ни креста.
Одноименный персонаж из мифологии, заменяющей нам историю литературы, — вялый увалень, ленивец сонный, лицейский Винни Пух — числится за Некрополем Александро-Невской лавры; там надгробия Дельвига, Данзаса, чье-то еще составлены рядком согласно строфе гениального соученика покойных: коллектив курса неразделим и вечен, как душа.
Детский мундирчик присвоен Дельвигу навсегда — и простодушный взгляд сквозь очки. Даже есть такой портрет, якобы с натуры, хранится в Пушкинском Доме, — но:
— В Лицее мне запрещали носить очки, — жаловался Дельвиг одному приятелю, — зато все женщины казались мне прекрасны; как я разочаровался в них после выпуска!
Неизвестный художник приврал — с наилучшими намерениями, конечно; сходство соблюдено, а притом осталось напоминание, чем данная личность интересна: однокашник Пушкина, младший парнасский брат, верный оруженосец.
Дельвиг действительно сразу, намного раньше всех, догадался, в чьем времени живет, и свою роль в толпе исполнял без страха и упрека.
Жизнь Дельвига сосредоточена была на литературе. Литература состояла из Пушкина и его современников. Подобный подход упрощает существование писателю, как Дельвиг, не подверженному зависти: будь современником полезным, надежным, а сам хоть не пиши.
Даже в ранней молодости он о собственной литературной славе помышлял с улыбкой: не забавно ли вообразить, как через сколько-то столетий лапландские какие-нибудь археологи откопают в руинах Петербурга чудом сохранившийся ларец со стихами бедного Дельвига:
Пышный город опустеет,
Где я был забвен,
И река зазеленеет
Меж упадших стен.
Суеверие духами
Башни населит,
И с упавшими дворцами
Ветр заговорит…
Красиво, не правда ли? Что, если эти — и остальные — стихи по случайности уцелеют?
Сколько прений появится:
Где, когда я жил,
Был ли слеп, иль мне родиться
Зрячим Бог судил?
Кто был Лидий, где Темира
С Дафною цвела,
Из чего моя и лира
Сделана была?..
Неуверенные, надо думать, получатся ответы.
Уже и сейчас нелегко дознаться, например, какого роста был барон Дельвиг. Вероятней, что высокого — и тучен (на Пьера Безухова похож? на князя N — мужа Татьяны Дмитриевны, урожденной Лариной?). Некто — отнюдь не друг — роняет вскользь, что барон был человек благородной наружности. В мемуарах родственника сказано: аристократическая фигура, — но это скорей об осанке и выдержке.
Тут изображение двоится. С одной стороны: «всегда отменно хладнокровный», «чрезвычайно обходительный со всеми»; «хотя и любил покутить с близкими, но держал себя очень чинно»… Неприятели же печатно — и прозрачно — намекали: сильно попивает. Как ни странно, старший парнасский брат в энциклопедии русской жизни дал этим толкам свежую пищу: Ленский накануне дуэли, ночью, один, сам себе декламирует только что сочиненные стихи,
Как Дельвиг пьяный на пиру.
Очевидно, что это шутка, и самая что ни на есть дружелюбная, — но, согласитесь, почему-то не смешная; автор слишком сердится на Ленского за «любовную чепуху», которую сам же вместо него зарифмовал, — а она предсмертная (и чем хуже «стрелой пронзенный» — «мрака заточенья» из классического шедевра? — такой же алгебраический оборот), — словом, Ленского жаль, да и Дельвиг, если вдуматься, выглядит очень уж одиноким.
Собрание невеселых анекдотов и недобрых острот — почти вся биография Дельвига.
Ведь это он в день знаменитого лицейского экзамена спозаранку дожидался на лестнице приезда Державина, чтобы поцеловать руку, написавшую «Водопад», — и дождался озабоченного вопроса:
— Где, братец, здесь нужник?
Это он вызвал Булгарина на дуэль, а наглый Фаддей через Рылеева, своего секунданта, отказался стреляться, передав, что видел на своем веку, дескать, больше крови, чем барон Дельвиг — чернил.
И ему подарил Пушкин человеческий череп — уверяя, будто это череп одного из баронов Дельвигов, средневековых рыцарей, и выкраден из церковного склепа в Риге:
«Большая часть высокородных костей досталась аптекарю. Мой приятель Вульф получил в подарок череп и держал в нем табак. Он рассказывал мне его историю, и, зная, сколько я тебя люблю, уступил мне череп одного из тех, которым обязан я твоим существованием…»
А какой славной эпитафией проводила Дельвига на тот свет А. П. Керн, гений чистой красоты:
«Вчера получил я письмо от Анны Петровны, — записал в дневнике вышеупомянутый Вульф, любовник и двоюродный брат этой дамы, — в конце которого она прибавляет: „Забыла тебе сказать новость: барон Дельвиг переселился туда, где нет „ревности и воздыханий““».
Даже Вульфа покоробило, и он добавляет с укоризной: «Вот как сообщают о смерти тех людей, которых за год перед сим мы называли своими лучшими друзьями».
Самая смерть Дельвига обратилась в скверный анекдот, удивительно распространенный. Строго говоря, советский аттестат зрелости обязывает иметь о Дельвиге такие сведения: друг детства (ясно — чей) — сочинил популярный текст «Соловей мой, соловей, Голосистый соловей» (далее неразборчиво) для колоратурного сопрано — и загублен самодержавием.
Отличники вспомнят и подробности: по доносу Булгарина распечен Бенкендорфом, вследствие чего умер от простуды, — но эти подробности только вредят эффекту правдоподобия.
Чтобы генерал Бенкендорф — хоть и правнук бургомистра Риги, то есть дворянин всего лишь в четвертом поколении, но все же человек светский, — топал ногами на барона Дельвига, потомка крестоносцев, и орал благим матом: в Сибирь тебя упеку! и Пушкина твоего! и с Вяземским вместе! — само по себе сомнительно; невероятно грубо и, сверх того, совершенно наперекор явному — пусть показному — благоволению, знаками коего царь приручал как раз в это время и Вяземского, и особенно Пушкина (кстати — неужели Дельвиг не известил бы Пушкина о новой угрозе?).