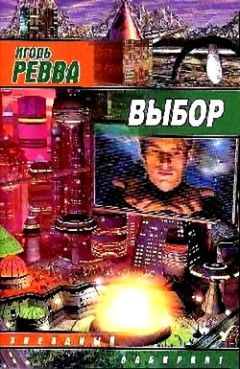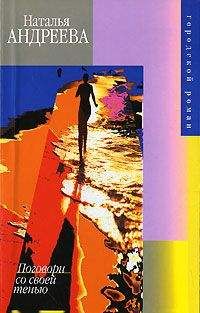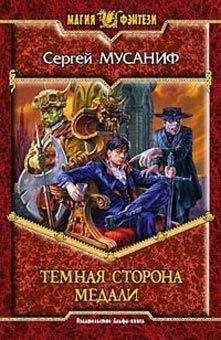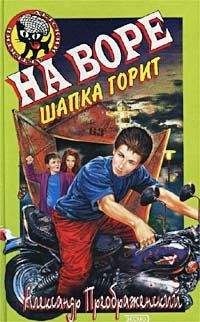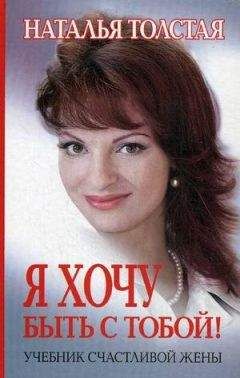Натан Эйдельман - Твой XIX век
Однако и летом Анна Николаевна не решается воспользоваться новым видом сообщения, пусть втрое приблизившем ее к мужу:
„Во-первых, боюсь опоздать на какой-нибудь станции, а во-вторых, со мною большая свита и это будет дорого стоить; а я одна ехать не умею. Мне нужна Надежда, нужна ей помощница; нужен лакей, нужен повар; нужна Александра Алексеевна. Еще нужно взять Филимона, потому что без меня ни за что не останется“.
Вот какие трудноразрешимые проблемы ставят перед медлительными сельскими жителями новые, доселе невиданные темпы! Например: во сколько же обойдется дорога, если всегда брать по восемь — десять мест? И нельзя же ехать вместе с горничной в 1-м или 2-м классе, но опасно усадить ее в 3-ий — как бы „машина не уехала“…
Техника демократизирует!
Однако и помещица и крестьяне по-разному, но оценили пользу „чугунки“.
Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то все косточки русские…
Сколько их? Ваничка, знаешь ли ты?..
Впечатления Анны Дубельт сильно разнятся от впечатлений Николая Некрасова.
Двадцать шестого мая 1852 года она расхваливает своих крестьян, которые работают на „чугунной дороге“:
„Они получили задаток по 4 р. 50 к. на каждого и просили жандармского офицера Грищука доставить эти деньги ко мне, 86 р. 50 к., дабы я употребила их по своему усмотрению, как я рассужу получше. Это так восхитило подрядчика, что он прибавил им по 1 р. серебром на человека за доверенность к своей помещице… Сумма небольшая, но для мужика она бесценна, потому что это плод кровавых трудов его; и несмотря на то, что он верит своему помещику, тот не только его не обидит, но еще лучше его самого придумает, куда эти деньги употребить получше. Не правда ли, Левочка, что такие отношения с людьми, от нас зависящими, весьма приятны?“
Осенью госпожа Дубельт рекомендует мужу одного из его подчиненных:
„Жандармский офицер, который к тебе привез мои яблоки из Волочка, есть тот самый Грищук, который мне много помогает по делам моим в Волочке, в отношении железной дороги. У меня беспрестанно стоят там крестьяне в работе, и этот Грищук такой добрый для них и умный защитник, что рассказать нельзя. По его милости все получают плату наивернейшим образом: всех их содержат отлично, берегут, и каждый находит себе прекрасное место“.
В конце года около тридцати ее крестьян отправляются на строительство Варшавской железной дороги. Помещица просит мужа, чтобы узнал и сообщил, какая полагается плата рабочим: „Условия, какие тебе угодно, только бы их не обидели и чтобы можно было отойти домой летом, когда нужно“. Ясно, что к заключению условий генерал имеет прямое отношение. Лишний рубль серебром… Кто знает, может быть, этот рубль для дубельтовских людей был взят за счет других, недубельтовских, наблюдать за которыми, собственно, и поставлен жандарм Грищук…
С богом, теперь по домам — поздравляю!
(Шапки долой — коли я говорю!)
Бочку рабочим вина поставляю
и — недоимку дарю!..
Можно было бы, вероятно, написать интересное исследование, сравнив положение и доходы крепостных, принадлежавших важным государственным лицам и — не важным, обыкновенным дворянам. „Важные“ в среднем, наверное, приближались к государственным крестьянам (жившим лучше помещичьих). Надбавки их были, в конце концов, прибыльны и господам; жандармы, становые, чиновники были осторожнее с людьми министра или начальника тайной полиции, и это была скрытая дополнительная форма жалованья больших господ. Поэтому генералу Дубельту было выгоднее посылать своих крестьян на чугунку, чем соседнему душевладельцу; поэтому генерал и генеральша больше и смелее интересовались разными хозяйственными новшествами, которые все больше окружали их, тихо и невидимо угрожая…
Дубельты интересовались и даже обучались…
17 мая 1852 года — горячая пора.
„Но выше работ есть у нас с Филимоном желание поучиться хорошему. И меня и его, моего помощника, прельщают описания хозяйства в Лигове у графа Кушелева. Филимону хочется посмотреть, а мне хочется, чтобы он посмотрел, как там приготовляют землю под разный хлеб; как сеют траву для умножения сенокоса и проч.“.
Крепостному управляющему дан отпуск „только до будущего воскресенья“, и Анна Николаевна посылает мужу целую инструкцию насчет Филимона. Вообще все переживания и описания, связанные с экспедицией Филимона, относятся к колоритнейшим страницам переписки.
„Хоть Филимон человек умный, — пишет Анна Николаевна, — но ум деревенский не то, что ум петербургский. В первый раз в Петербурге и помещик заблудится, не только крестьянин. Сделай милость, дай ему какого-нибудь проводника. Как Филимон первый раз в Петербурге, мне хочется, чтобы он посмотрел что успеет. Сделай милость, Левочка, доставь ему средства и в театре побывать, и на острова взглянуть. Пусть на островах посмотрит, какая чистота и какой порядок, так и у нас в Рыскине постарается завести.
Я дала ему на проезд и на все расходы 5 золотых; это значит 25 руб. 75 к. серебром. Если этого будет мало, сделай милость, дай ему еще денег… Сделай для меня милость, Левочка, приласкай моего славного Филимона; он такой нам слуга, каких я до сих пор не имела“.
На другой день, во изменение прежних указаний, помещица пишет:
„Нечего давать Филимону людей в проводники, я даю с ним отсюда бывшего кучера Николая“.
Через восемь дней:
„Филимон вернулся и говорит: „Заберегли, матушка, меня в Питере, совсем заберегли! Леонтий Васильевич, отец родной! Кажется, таких людей на свете нет. Если бы не совестно, я бы плакал от доброты его. И как он добр ко всякому! В Демидовском всякую девочку приласкает. Были фокусы, он всякую поставит на такое место, чтобы ей получше видно было““.
Анне Николаевне нравится все это:
„Будь он приказчик Кушелева или Трубецкого, ты бы об нем и не подумал, — а как он мне служит хорошо и меня тешит своим усердием и преданностью, то ты от этого и „заберег“ его до самого нельзя“.
Итогом поездки явился также соблазн: „не купить ли молотильную машину, какая в Лигове, но она будет стоить более 400 рублей серебром“.
Наконец, в последний раз поездка Филимона вызывает серьезные размышления на самые общие темы:
„Какая примерная преданность у Филимона; Сонечка мне пишет, что она его уговаривала пробыть еще хоть один день в Петербурге, посмотреть в нем, чего еще не видел. „Благодарствуйте, Софья Петровна, — отвечал он, — буду глядеть на Питер, меня за это никто не похвалит, а потороплюсь к нашей матушке да послужу ей, так это лучше будет“. — Пусть же наши западные противники, просвещенные, свободные народы представят такой поступок, каких можно найти тысячи в нашем грубом русском народе, которого они называют невольниками, serfs, esclaves!
Пусть же их свободные крикуны покажут столько преданности и благодарности к старшим, как у нас это видно на каждом шагу. У них бы залез простолюдин из провинции в Париж, он бы там и отца и мать забыл! А у нас вот случай, в первый раз в жизни попал в Петербург и не хочет дня промешкать, чтобы скорее лететь опять на службу — его никто не принуждает; ему в Петербурге свободнее, веселее; но у него одно в голове — как бы лучше исполнить свои обязанности к помещику. Поэтому помещик не тиран, не кровопийца, русский крестьянин не esclave, как они говорят. У невольника не было бы такой привязанности, если бы его помещик был тиран. Этакая преданность — чувство свободное; неволей не заставишь себя любить“.
Леонтий Васильевич в своем дневнике вторит жене:
„Народ требует к себе столь мало уважения, что справедливость требует оное оказывать… Отчего блажат французы и прочие западные народы? Отчего блажат и кто блажит? Не чернь ли, которая вся состоит из работников? А почему они блажат? Не оттого ли, что им есть хочется и есть нечего? Оттого что у них земли нет, — вот и вся история. Отними у нас крестьян и дай им свободу, и у нас через несколько лет то же будет… Мужичку же и блажь в голову нейдет, потому что блажить некогда… В России кто несчастлив? Только тунеядец и тот, кто своеволен… Наш народ оттого умен, что тих, а тих оттого, что не свободен“.
Генерал не слышит великих и страшных громовых раскатов… Кажется, до тех лет еще далеко-далеко. А до конца жизни генерала и генеральши — близко…
VII
1850-е годы — „вечер жизни“. Приближается зима, „и пойдет это оцепенение природы месяцев на семь и более. Дай бог терпения, а уж какая скучная вещь — зима!“ Анна Дубельт жалуется на нездоровье, бессонницу и страшную зубную боль, от которой порою „зимними ночами во всем обширном доме не находила места“. „А как пойдут сильные морозы, и ни в доме, ни в избах не натопишь… Много топить опасно, а топить как следует — холодно“.