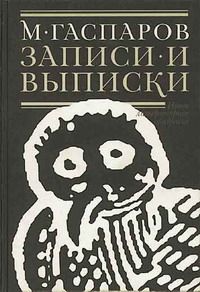Михаил Гаспаров - Записи и выписки
Однажды мне случилось сказать: «Не потому Лермонтов нам нравится, что он велик, а наоборот, мы его называем великим потому, что он нам нравится». Мне казалось, что это банальность, но В. В. Кожинова это почему-то очень возмутило. Мне и до сих пор кажется, что наше «нравится — не нравится» — недостаточное основание, чтобы объявить писателя великим или невеликим. Я бы предпочел считать, что тот писатель хорош, который мне не нравится, который выходит за рамки моего вкуса: ведь я не имею права считать мой вкус хорошим только потому, что он мой. Еще лучше было бы вместо своей эгоцентрической точки зрения реконструировать чужую, заведомо достойную уважения: а что сказал бы о таком-то современном поэте Мандельштам? Пушкин? Овидий? Такие гипотетические суждения, наверное, были бы интереснее; но обычно об этом не задумываются, вероятно, предчувствуя: ничего хорошего они бы не сказали.
Вопрос «хорошо» или «плохо» всегда предполагает сравнение: «лучше» или «хуже» кого-то или чего-то другого. Когда такие сравнения делаются в пределах одной культуры, они бывают изящны: кто лучше, Эсхил или Еврипид, Корнель или Расин, Евтушенко или Вознесенский? Думаю, однако, что гораздо интереснее были бы сравнения между разными культурами, хотя их обычно избегают из-за трудности: кто талантливей, Дельвиг, Шершеневич или Юрий Кузнецов? А интереснее такие сравнения вот почему. Нам ведь только кажется, будто мы читаем наших современников на фоне классиков, — на самом деле мы читаем классиков на фоне современников, и каждый из нас в своей жизни раньше знакомится с Михалковым, чем с Пушкиным, и с Пушкиным, чем с Гомером. Отдавать себе отчет в том, где здесь прямая перспектива и где обратная, было бы очень полезно. И это относится ко всем векам: когда римляне осваивали греческую культуру, они заставляли себя читать Каллимаха, а уважать Гомера. Это очень мешает строить систему вкуса: в лучшем случае получается сознательное лицемерие, а в худшем бессознательное. Сейчас сопоставительное чтение одного текста на фоне другого полюбили постструктуралисты и деструктивисты. Но они не ставят целью выяснение генезиса собственного вкуса: они вместо этого создают художественные произведения и выдают их за научные. Где-то у Борхеса предлагается вообразить (кажется), что «Дао дэ-цзин» и «1001 ночь» написаны одним человеком, и реконструировать душевный облик этого человека. А у Ст. Лема предлагается литературная игра «Сделай сам»: можно поженить Гамлета с Наташей Ростовой и посмотреть, что из этого выйдет. Постструктуралисты занимаются почти тем же самым — только они реконструируют облик не одновременного писателя, а одновременного читателя таких про изведений, т. е. наш собственный (по большей части — малопривлекательный). Ничего нового здесь нет. Классики потому и считаются классиками, что каждое поколение смотрится в них, как в зеркало; а кто больше озабочен своей наружностью, смотрится сразу в два зеркала, это только естественно. Хуже то, что они уверя[110]ют нас, будто это их отражение и есть самое главное в зеркале классической литературы.
Постструктурализм и деструктивизм — нарциссическая филология. Да, они справедливо напоминают, что филология нам дает не описание произведения, а описание взаимодействия произведения с исследователем. (Это взаимодействие любят называть «диалог»; об этой сомнительной метафоре — чуть дальше.) И они справедливо ссылаются на физику, которая признает, что прибор дает нам показания не об объекте, а о своем соприкосновении с объектом. Но что делает физик? Он старается выяснить специфику возмущающего влияния прибора (в какую дурную бесконечность уводит это выяснение — вопрос отдельный), чтобы потом вычесть ее из операций и по возможности сосредоточиться на объекте. А что делает филолог донаучной или посленаучной эпохи? Он сосредоточивается именно на взаимодействии между собой и произведением — на том взаимоотношении, которое честно формулируется словами «нравится — не нравится», а прикровенно — словами «хорошо — плохо». То есть на игре собственных эстетических переживаний. Право, если бы физику термометр начал изъяснять переживание им собственной ртути, то физик такой термометр выбросил бы. Когда мы говорим «хорошо — плохо», этим мы проясняем себе (и другим) структуру нашего вкуса. Это очень важный предмет, и самопознание очень благородное занятие. Но не нужно выдавать его за познание предмета, с которым мы имеем дело.
Критик справедливо напоминает ученому, что не все можно взять разумом, а иное только интуицией. Но он забывает напомнить, что и наоборот, не все можно взять интуицией: она действует только в пределах собственной культуры. Попро буем перенести методы французских постструктуралистов с Бодлера и Расина хотя бы на Горация (не говорю: на Ли Бо), и сразу явится или бессилие, или фантасмагория. Они исходят из предпосылки: раз я читаю это стихотворение, значит, оно написано для меня. А на самом деле для меня ничего не написано, кроме стишков из сегодняшней газеты. Чтобы понять Горация, нужно выучить его поэтический язык. А поэтический язык, как и английский или китайский, выучивается не по интуиции, а по учебникам (к сожалению, для него не написанным).
Если стихи классиков писаны не для нас, то что означает обычное наше ощущение: «я понимаю это стихотворение»? То же самое, как когда мы говорим: «я знаю этого человека». Этот человек заведомо создан не для меня, и я заведомо не притязаю читать у него в душе, я только представляю себе, каких неожиданностей от него можно ждать, а каких можно не ждать: набросится ли он в следующий миг на меня с кулаками и пойдет ли он на следующий день на меня с доносом. Вот так и филологическое понимание есть лишь самозащита от нападения на нас непонятного нам мира в лице такого-то стихотворения. Только в этом смысле я согласен с тем, что искусство есть насилие, и понимаю постмодернистских критиков, которые с этим насилием борются. Но мне хотелось бы бороться не встречным насилием.
Для меня в этом мире не создано и не приспособлено ничего: мне кажется, что каждый наш шаг по земле убеждает нас в этом. Кто считает иначе, тот, видимо, или слишком уютно живет (замечает те книги, какие хочет, и не замечает тех, каких не хочет), или, наоборот, так уж замучен неудобствами этого мира, что выстраивает в уме воображаемый и считает его единственным или хотя бы настоящим. Так что вместо «нарциссическая филология» можно сказать «солипсическая филология». А я привык думать, что филология — это служба общения. [111]
Общение это очень трудное. Неоправданно оптимистической кажется мне модная метафора, будто между читателем и произведением (и вообще между всем на свете) происходит диалог. Даже когда разговаривают живые люди, мы сплошь и рядом слышим не диалог, а два нашинкованных монолога. Каждый из собеседников по ходу диалога конструирует удобный ему образ собеседника. С таким же успехом он мог бы разговаривать с камнем и воображать ответы камня на свои вопросы. С камнями сейчас мало кто разговаривает — по крайней мере, публично, — но с Бодлером или Расином всякий неленивый разговаривает именно как с камнем и получает от него именно те ответы, которые ему хочется услышать. Что такое диалог? Допрос. Как ведет себя собеседник? Признается во всем, чего домогается допрашивающий. А тот принимает это всерьез и думает, будто кого-то (что-то) познал.
Когда мы читаем старые «Разговоры в царстве мертвых» — Цезарь со Святославом, Гораций с Кантемиром, — мы улыбаемся. Но когда мы сами себе придумываем разговор с Пушкиным или Горацием, то относимся к этому (увы) серьезно. Мы не хотим признаться себе, что душевный мир Пушкина для нас такой же чужой, как древнего ассирийца или собаки Каштанки. Вопросы, которые для нас главные, для него не существовали, и наоборот. Мы не только не можем забыть всего, что Пушкин не читал, а мы читали, — мы еще и не хотим этого: потому что чувствуем, что из этих-то книг и слагается то драгоценное, что нам кажется собственной на шей личностью. Оттого мы и предпочитаем смотреть на дальние тексты сквозь ближние тексты, будь то Хайдеггер или Лимонов.
Максимум достижимого — это учиться языку собеседника; а он такой же трудный, как горациевский или китайский. Конечно, это меня просвещает и обогащает — но ровно столько же, сколько обогащает изучение китайского языка. (Можно ли говорить о диалоге с учебником китайского языка?) Как разговариваем мы с живыми людьми? В любом так называемом диалоге поток мыслей моего собеседника начался до меня, я обязан поймать их на лету, угадать самоподразумевающееся для него, поддержать, не понимая, и обогатиться ненужным, а его отпустить довольным. Что ж, согласовывать наши языки хотя бы на материале литературных репутаций — это совсем не так плохо. Это все равно что составить многостолбцовый словарь: что значит «хорошо», «плохо» и все оттенки между этими краями для такого-то, и такого-то, и такого-то критика. Все равно наука всегда начинается с интуиции: с выделения того, что нам интуитивно кажется заслуживающим изучения. В нашем случае — хороших и плохих литературных произведений. А потом уже происходит поверка разумом: почему именно такие-то тексты вызвали именно такие-то интуитивные ощущения. Но этим обычно занимается уже не критика. [112]